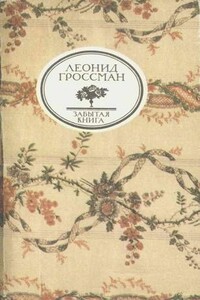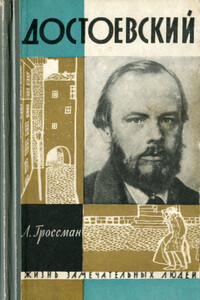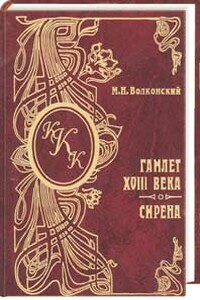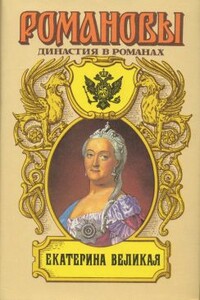Бархатный диктатор | страница 133
Тогда, над Невою, это было великое ожидание, надежда, устремление в будущее, порыв в неведомую, но полную радостей и высокого смысла жизнь. Теперь оно рождалось, это творческое волнение, из разочарований, горечи, непоправимых обид. Но, как и тогда, оно снова звенело неистощимою силою, напрягало все существо, возносило мысль на высокие ледяные вершины, охватывало единым зорким взглядом всю запутанную и темную ткань бытия. Все прозревалось в ней до последних волокон и, насквозь озаренное, оживало в новом строе воссозданного им мира, бесконечно волнуя и томя душу. Возникали образы. Освежающие могучие мысли воплощались и становились силами. Кто это сказал, умирая, своему сыну: «Освежи меня великой мыслью»? Вот такие озаряющие и живоносные раздумья, преодолевающие великую предсмертную скорбь и чудесно облегчающие ужас смертельной агонии, поднимались в нем и мучительно искали живых и действенных форм. Недаром его карманные блокноты и кожаные тетради за последние дни заполнялись записями беспорядочными, текучими, как лава, уже обтекавшими хаос жизни своими неизгладимыми чертами.
Задумавшись, он переводил взгляд на длинный перечень дат. Это – список припадков, аккуратно занесенный на страницу кожаной тетради. Целая календарная сводка.
13 марта. Сильный припадок; переменчивая погода, дождь, холодно.
9 апреля. Припадок; солнце, ветер.
17 апреля. Приступ во время сна в 8 часов 3 минуты утра, сильное возбуждение, лицо помертвело…
Список занимал целую страницу. Точные числа и краткие протокольные записи навевали тоску и тревогу.
Припадки истощают силы. Вероятно, после каждого приступа эпилепсии мозг становится слабее, теряет остроту и энергию своих функций. Каждый припадок незаметно и уверенно убивает творческие возможности, ослабляет память, изнуряет воображение, безжалостно и тайно подготовляет полный упадок таланта. Ежечасно, но неведомо свершается казнь художника. Надолго ли еще хватит сил, зоркости взгляда, отчетливости мысли?
К каждой новой рукописи он приступал с мучительной и тайной тревогой: а что, если болезнь уже подкосила дарование, если оно иссякло, если из нового замысла ничего не выйдет? Может быть, он только тешит себя этими глубокими перспективами – новых творений, которые ему уже не дано осуществить? Но работа, томительная вначале, обычно быстро разрасталась, увлекала его, крепла в своем росте, являла прежние черты уверенности контуров, выразительности типов, увлекательности сюжетов и даже понемногу раскрывала в его сложных построениях новую углубленность характеров и повышенный драматизм судеб. Болезнь не только не подорвала его силы, она, казалось, сообщала ему неведомый опыт, все более проясняя его зрение, утончая впечатлительность и углубляя понимание болящего человека. Быть может, и назревающая, еще неизвестная, книга широко развернет его силы и отметит новую ступень его восхождения. Он задумчиво продолжает запись: