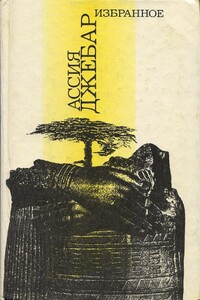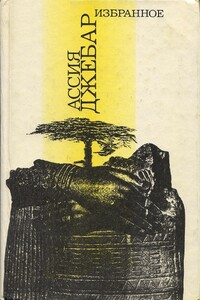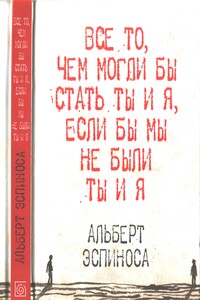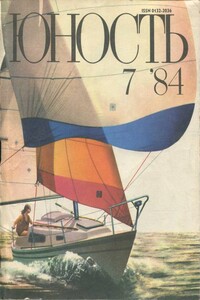Жажда | страница 15
Али тихо говорил:
— Тебе лучше?
Забывая о моем присутствии, он клал руку на ее загорелый лоб. Она отвечала ему ровным, ясным голосом:
У меня больше не болит голова. Только чувствую себя немного усталой.
— Ты поела?
Она поворачивалась ко мне, но не улыбалась, вынуждала меня вмешиваться, сообщать ему какие-то сведения о ее состоянии, но он не слушал, потому что непрерывно смотрел на Джедлу. А во мне при взгляде на нее поднималась волна холодной враждебности, зависти к ее одиночеству, так облегчаемому всеми нами. Она была свободной, думала я. Нет! — противилась закипавшая во мне злость. Не свободной, а черствой, эгоистичной, бессердечной. И как только умудрялась она не замечать эти две новые морщинки, что пролегли теперь на лбу Али? Эти две морщины, которые превратили внезапно его лицо во что-то такое ранимое, до чего и дотронуться-то было страшно и обращаться с которым надо было ох как осторожно. Для меня вообще лицо мужчины, искаженное болью, было знаком всех несчастий мира, всеобщей беды. И мне хотелось, протянув к нему руки над этой кроватью, приласкать его, смягчить его боль и печаль… Я подумала внезапно о смятом пакетике из-под снотворного, валявшемся в слишком чистой ванной комнате, и он мне показался такой ерундой. Потом я посмотрела на лежавшую в кровати Джедлу, разделявшую нас, неподвижную, одинокую. Ее дыхание становилось иногда неслышным, замирало, будто падало куда-то в глубокую бездну, потом снова поднималось и растворялось бесследно в нашем молчании — в нашем ожидании.
Наконец Али вставал и как-то неуверенно, запинаясь, говорил, что он должен уйти, чтобы она поспала. Слова были какие-то жалкие, словно он пытался убедить себя, что не пасует перед несчастьем, не бежит в страхе от этого упрямого, ожесточившегося детского лица, которое ему представлялось совсем другим, когда оно отдыхало.
И эта его хитрость, его такая очевидная уловка, сближала меня с ним.
Так прошли три дня — в полном молчании. Тихий шепот озабоченных голосов, сводящая с ума тишина затемненной комнаты, где находилась больная, всегда распахнутое, но зашторенное окно, за которым царило лето, сияло небо… Окно, как бы раскрытое для прыжка. И эти хрупкие очертания тела под простыней, черноволосая голова, вмятая, будто навсегда, в подушку.
Время застыло, словно гладь мертвой воды. И мне казалось, что я живу здесь давным-давно, в прохладном полумраке этих комнат, в этом вечном бдении у постели больной…