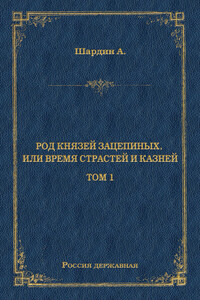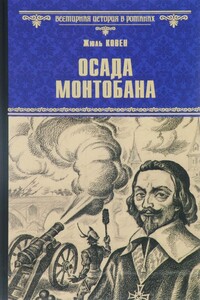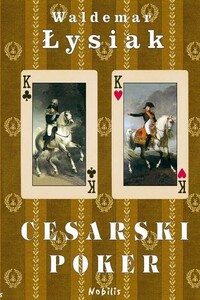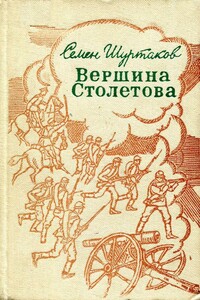Поля Елисейские. Книга памяти | страница 90
Адамович – неженка, шалун, ухитряется жить с эмигрантской литературы и «вести» молодежь за собою, не ссорясь ни с Буниным, ни с Милюковым, ни с другими эпигонами… Возвращаясь из Ниццы после каникул, Адамович занимает деньги у мецената якобы для лечения парализованной тетушки и спускает все в баккара.
После этого доверчиво объясняет:
– Вы думаете, мне деньги нужны были для докторов, ха-ха-ха, я их профукал в клубе…
Это все при определенной антипатии к Достоевскому.
Адамович в самом начале войны, без малого пятидесяти лет от роду, записывается волонтером в Иностранный легион; там вместе с другими несчастными беженцами и наряду с разными преступными личностями – ибо Легион всех принимает и все смывает – лютой зимою 1939–1940 годов проходит военную подготовку в условиях воистину удручающих.
Капитан его спрашивает:
– Скажите, почему вы попали в Легион?
– Je hais Hitler!
– Oui, oui, je comprends, mais avez vous un casier judiciaire? [61]
Командующий этой частью – кадровый офицер, сенсирец – не может себе представить, чтобы кто-нибудь в здравом рассудке и с непросроченным паспортом по своей воле мог пойти рядовым в Легион.
В этой обстановке Адамович продержался всю «смешную» войну. В 1940 году их бросили на север. В боях группа, кажется, не участвовала, да и мудрено было «участвовать», так мало длились эти бои. После развала фронта Адамович бежит назад, к Ницце, в тяжелых башмаках французской пехоты «прошлой» войны. Эту обувь Георгий Викторович мне показывал потом в Ницце и объяснял, что осенью он как-то собрался в них на рынок и не добрел: такая мучительная обуза – колодки на ногах! И вот в этих сапогах Адамович вместе с другими собратьями по оружию спешит к Средиземному морю. Немецкие солдаты их перенимают вместе с толпой беженцев. Конец… Но чужой унтер-офицер кричит французской толпе:
– Les civils par ici, les militairs f… le camps!
To есть военные, улепетывайте до поры до времени.
И Адамович с удвоенной энергией пускается дальше в своих штиблетах.
Когда на чужом материке я пытался объяснить вдумчивым людям, не знавшим Парижа того времени, но читавшим изредка «Последние новости», когда я тщился им растолковать роль Адамовича в нашей литературе, я всякий раз испытывал чувство, похожее на то, какое бывает, если стараешься словами описать внешность, или запах, или музыку…
Совершенно очевидно, что статьи Адамовича и еще меньше стихи или очаровательная болтовня не исчерпывают его роли. Для себя лично я решил этот вопрос несколько неожиданно. Если бы требовалось одним словом определить вклад Адамовича в жизнь нашей литературы, я бы сказал: «Свобода!»