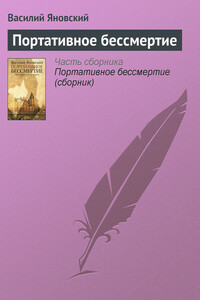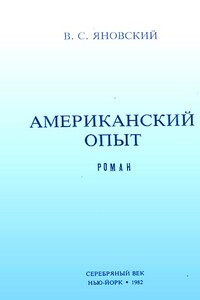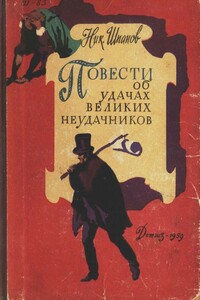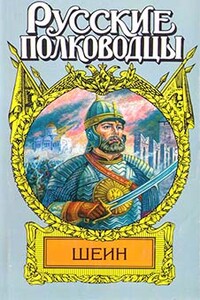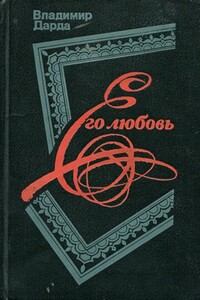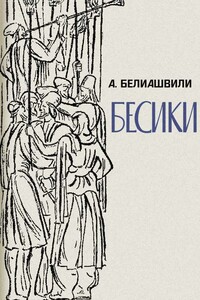Поля Елисейские. Книга памяти | страница 83
В июне 1940 года Фондаминский жил возле Аркашона; туда к нему на время попала моя жена, там же осели многие друзья. Между прочим, Мочульский. Фондаминский славился всегда своим профессиональным оптимизмом. Но тут вдруг в плане личных невзгод – потери удобной квартиры, привычной обстановки с книгами – он проявляет даже детскую растерянность. Несколько раз обмолвился такой фразой:
– Как я теперь проживу? Ведь я ничего не умею делать, а люди привыкли ко мне обращаться за помощью…
Это высказывание вызвало у Мочульского даже ряд ядовитых замечаний. Выяснилось также, что в кабинете у Фондаминского в стене имелся потайной шкаф, где хранилась какая-то сумма в фунтах стерлингов. И хотя деньги были сравнительно ничтожные, но всем вдруг стало ясно, что Фондаминский забыть этого не сможет и должен хотя бы на часок заглянуть опять на 130, авеню де Версай.
Он и вернулся осенью, когда многие из его друзей тоже очутились в Париже. Снова пошли собрания, доклады, но теперь кроме православного дела или русского театра прибавилась еще если и не прямая конспирация, то некое предвкушение ее… Париж начал организовывать свои первые кружки Сопротивления (резистанса). Вскоре наш общий друг Вильде затеет свою подпольную типографию при музее Трокадеро. Все эти едва ощутимые колебания почвы Фондаминский должен был воспринимать, как боевая лошадь – звук военной трубы.
– Вот Федотов сидит уже в лагере под Дакаром, а мы здесь еще работаем! – заявлял он не без насмешки. – Тут еще можно работать.
Увлечение всякого рода организациями гипнотизировало в первую очередь его самого, так что он часто восхищался враждебными ему людьми только за их умение «работать».
– Ах, какой чудный работник! – говорил он с восхищением (о заведомом дураке или даже гаде).
Не мог он не оценить германской распорядительности и сноровки на первых порах оккупации. Этим объясняется некоторое приязненное чувство Фондаминского к немецкому полковнику, приходившему к нему в кабинет и любовавшемуся русскими книгами; он мог полюбить любого пруссака, цитировавшего на память Шиллера или Гегеля. В конце концов поколение Фондаминского воспитывалось на гейдельбергских дрожжах… Размышляя над судьбой революционеров этого призыва, я убеждаюсь, что основной, исторической чертой их было совершенное неумение разбираться в людях. Та жизненная, практическая смекалка, которая помогает фермеру выбрать себе батрака и жену, а капитану судна подходящего боцмана, эта таинственная особенность ума совершенно отсутствовала у всего последнего поколения русских бунтарей. Здесь, в общем, объяснение легендарного дела Азефа – анекдот, кажется, единственный в многообразной истории центрального террора. Были Конрады Валленроды – но это другое.