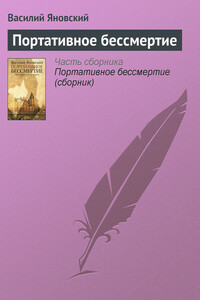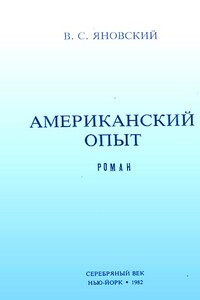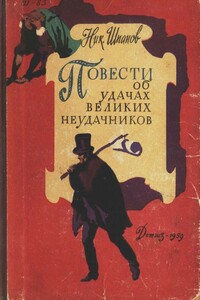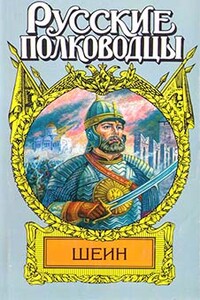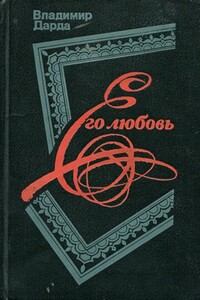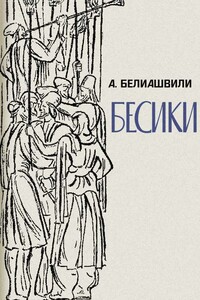Поля Елисейские. Книга памяти | страница 82
Любопытно, что с появлением «казенного пирога» в Нью-Йорке, когда разные суммы отпускались американскими организациями на нужды холодной (и теплой) войны, сразу появились рвачи, ловчилы, полугангстеры как в среде новых эмигрантов, питомцев советских школ, так и в гуще старых, изнеженных, настрадавшихся от царского режима гуманистов. Перехватить, оттеснить, получить – вот актуальные лозунги бывших комсомольцев и деликатных интеллигентов. Относительно последних это особенно удивительно, ибо в молодости они все пострадали за идеализм и сидели в тюрьмах – любили народ… Очевидно, тогда каторга и другие испытания были в духе времени, эпохи, а не личным подвигом каждого. А теперь те же самые светлые герои, сбрив чеховские бородки, перебегают от одного полуправительственного прожекта к другому, из одной радиостанции в другую, от одного культурного «фонда» к следующему, стараясь побольше урвать для себя и для своей группы.
Из всего вышесказанного, думаю, явствует, что подвиг целого поколения тоже может быть основан на недоразумении или является только выражением условного рефлекса, подобно выделению слюны.
Теория «интеллигентского ордена», творившего русскую культуру, была если не изобретением Фондаминского, то, во всяком случае, его любимым детищем. В его определение русского интеллигента укладывались все выдающиеся деятели. Тут и Новиков, и Ленин, Чернышевский, Достоевский и Федоров, Чаадаев и протопоп Аввакум. Всех их объединял жертвенный гуманизм; все они страдали за свою веру. Рыцарский орден, неорганизованно действовавший в истории… Иногда совершенно открыто, иногда под влиянием насилия уходивший в подполье. И опять наступает время, когда тайный духовный орден сможет спасти основные ценности христианской цивилизации. Это, пожалуй, учение Фондаминского.
Религиозный кризис Фондаминского назревал долго, развиваясь – судя по внешним признакам – с перерывами и медленно… До своего заключения в лагерь Компьень Фондаминский ходил по воскресным дням в церковь, но в таинствах, кажется, не участвовал; крестился он, по-видимому, уже в лагере (1941–1942 годы). Через Компьень прошла и мать Мария, и многие наши друзья. Есть слух, что Илья Исидорович и там завел кружки, доклады, рефераты, собеседования с общественной нагрузкою. Вскоре он, старый человек, занемог, так что все данные близкой смерти были налицо (даже без газовой камеры).
Люди его поколения никак не могут понять, почему Фондаминский, вырвавшийся из Парижа весной 1940 года, не уехал в Америку подобно всем «общественным деятелям». Он не воспользовался своей «чрезвычайной» визой и вернулся назад в Париж.