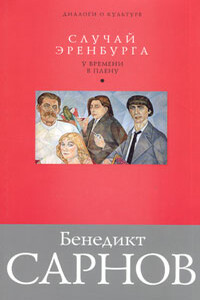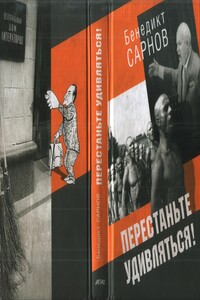Маяковский. Самоубийство | страница 39
Идея, ради которой герой стихотворения готов был идти на смерть, сегодняшнему читателю может представляться нереальной, даже ложной. Но речь-то в стихотворении не столько об идее, сколько об одержимости идеей. О том, как прекрасно встретить свой смертный час — как подобает мужчине, с оружием в руках, всем своим существом веря в справедливость той цели, во имя которой ты погибаешь:
Дело тут совсем не в том, что поэт «видит наше будущее без России, без Латвии», а в преклонении его перед готовностью человека отдать жизнь, до конца оставаясь верным некоему высокому и прекрасному идеалу. Кстати, как я уже говорил, тому самому, который за сто лет до того выразился в известных строчках другого поэта: «Когда народы, распри позабыв, в великую семью соединятся». Маяковский просто осовременил этот образ, назвав единую семью — единым общежитием. (Это был его любимый прием: вот так же он осовременил традиционный поэтический образ любовной ладьи, назвав ладью — лодкой.)
Не лишним, наверно, будет тут также отметить, что эта давняя, вековая мечта вылилась у Маяковского именно в такую форму («Без Россий, без Латвий») по той простой причине, что сам он был русским, а друг его, к которому он обращался, — латышом. Если бы его погибший друг был не латышом, а, положим, французом, он бы сказал: без Россий, без Франций. И это ни в коем случае не означало бы, что он предлагает упразднить Францию или присоединить ее к Советскому Союзу.
Говоря проще, злополучные строки Маяковского — это все-таки метафора.
Конечно, метафора метафоре рознь, и эта метафора Маяковского — не риторическая фигура, не просто плод некой словесной или интеллектуальной игры. За ней — правда душевного порыва, правда души поэта. Но для понимания этой правды сопоставление с наивной мечтой Макара Нагульного (переженить всех землян) мало что дает. Скорее даже мешает этому пониманию, придавая поэтической формуле Маяковского несвойственный ей буквализм.