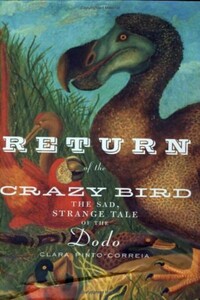Эмбрионы, гены и эволюция | страница 22
».
Хотя Геккель призывал к объяснению связи между эволюцией и развитием на основе законов физики и химии, он ни разу четко не выразил, что именно имеет в виду. Его высказывание относительно механических причин эволюции неопределенно, но тем не менее вызывает недоумение:
«Каузальный характер связи между историей зародыша (эмбриология или онтогенез) и историей трибы (филогенез) зависит от явлений наследственности и адаптации. Поняв сущность этих двух явлений и их важнейшую роль в определении форм организмов, мы можем сделать следующий шаг и сказать, что филогенез - это механическая причина онтогенеза».
В конце XIX в. эволюционисты оказались в затруднительном положении из-за того, что они не понимали механизма наследственности. Дарвин, так же как и другие, отступил назад, к теории Ламарка, согласно которой животные могут каким-то образом передавать своим потомкам полезные признаки, приобретенные в течение жизни. Эта теория выдвигала механизм прогрессивной эволюции и, кроме того, идеально соответствовала биогенетическому закону. Развитие носит характер рекапитуляции, потому что в процессе эволюции только взрослые стадии предковых форм жили достаточно долго, чтобы успеть приобрести и передать новые признаки. Эмбриональные стадии просто чересчур быстротечны. Как и можно было ожидать, Геккель от всего сердца принимал теорию эволюции Ламарка. Геккель считал, что в эволюции существуют три ключевых фактора: адаптация, наследственность и естественный отбор. По его мнению, истинным отцом эволюционной теории был Ламарк, открывший роль двух первых факторов - адаптации и наследственности. Под адаптацией Геккель понимал упражнение и образ жизни, которые, как считал Ламарк, вели к небольшим, но реальным усовершенствованиям, достигаемым индивидуумом. По представлениям Ламарка, наследственность заключается в передаче этих приобретенных свойств, что ведет к накоплению усовершенствований от поколения к поколению. Открытие третьего фактора - естественного отбора - принадлежит, конечно, Дарвину.
Геккеля не интересовала эмбриология как таковая; эмбриология поставляла данные для установления эволюционных историй - для построения филогенетического древа. Геккель обладал значительным влиянием, и сам он не сомневался в правильности своего подхода или в том, что предковые формы, воссоздаваемые им на основе биогенетического закона, действительно существовали в прошлом. Конечно, такое некритическое признание рекапитуляции неизбежно должно было привести к нелепостям; так, например, Дарвин в шестом издании «Происхождения видов» (1872) высказал предположение, что, поскольку самые разные ракообразные в своем личиночном развитии проходят через стадию науплиуса, это означает, что предковые ракообразные были сходны с науплиусом. Из такой интерпретации можно сделать гораздо более далеко идущие выводы, нежели простое отнесение морского желудя к ракообразным на основании характера его личинки. В действительности же тело самых древних и примитивных членистоногих состояло из многочисленных относительно недифференцированных сегментов и они совершенно не были похожи на несегментированного науплиуса (рис. 1-5).