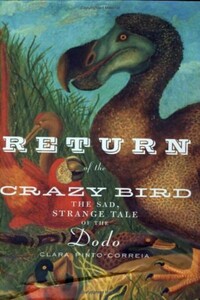Эмбрионы, гены и эволюция | страница 19
Рис. 1-3. Зародыши рыбы, курицы, коровы и человека на разных стадиях развития. Ранние стадии (верхний ряд) более сходны друг с другом, чем более поздние стадии (нижний ряд) (Haeckel, 1879).
Несмотря на то что концепция архетипа, составляющая часть трансценденталистского подхода к биологии, вряд ли могла привлекать Дарвина и его последователей, она в известной мере продолжала оказывать значительное влияние на интерпретацию эмбриологических данных. Для эволюционистов конца XIX в. ценность эмбриологических данных заключалась в их филогенетическом содержании. Тройной параллелизм Агассица и обобщения Бэра были сформулированы заново в эволюционных терминах.
В первом издании «Происхождения видов», вышедшем в 1859 г., Дарвин писал: «...В глазах большинства натуралистов строение зародыша имеет для классификации даже большее значение, чем строение взрослого животного. Зародыш - это животное в его менее измененном состоянии; и тем самым он указывает нам на строение своего прародителя». Существование архетипа здесь так же ясно Дарвину, как оно было ясно Бэру, но, конечно, Дарвин использовал эту идею иначе, чем это делал Бэр, скептически относившийся к эволюции до самой своей смерти (1876).
Согласно Дарвину: «Если две или более группы животных, как бы сильно они не различались в настоящее время по строению и образу жизни, проходят через одни и те же или сходные стадии эмбрионального развития, мы можем быть уверены, что они происходят от одной и той же прародительской формы или от почти одинаковых форм и, следовательно, находятся в близком родстве. Таким образом, общность строения зародыша указывает на общность происхождения». Дарвин считал также, что существует рациональное эволюционное объяснение и для тройного параллелизма: «Так как зародыши данного вида или группы видов частично указывают нам на строение их менее измененных отдаленных прародителей, то мы можем понять, почему древние и вымершие формы жизни должны походить на зародышей своих потомков - ныне живущих видов».
В полезности такого принципа для выяснения эволюционных взаимоотношений можно убедиться на примере любопытного цикла развития морского желудя. Морские желуди - сидячие формы, заключенные в панцирь и добывающие пищу путем фильтрации воды. Кювье (Cuvier) считал их моллюсками, но после изучения их эмбриологии стало ясно, что морские желуди вовсе не моллюски, а ракообразные. Как и у креветок, у морских желудей первой личиночной стадией служит науплиус. Но этот науплиус, вместо того чтобы, пройдя через дальнейшие личиночные стадии, превратиться в креветкообразную взрослую форму, превращается в циприсовидную личинку, напоминающую остракоду, которая оседает на подходящем субстрате и прикрепляется к нему при помощи цементных желез, расположенных у основания первой пары антенн. Осевшая личинка метаморфизирует, превращаясь в типичного морского желудя (рис. 1-4).