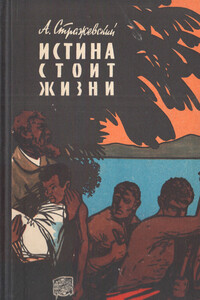От Белого моря до Черного | страница 34
Селения попадаются очень часто, кое-где они следуют одно за другим почти непрерывной цепочкой, на расстоянии не более полукилометра. Строения всюду крепкие и ладные, нередки двухэтажные дома. Вид многих колхозных деревень говорит о высоком благосостоянии. А на прибрежных лугах бродит основа этого благосостояния — все тот же племенной холмогорский скот. Удивительна «интеллигентность» холмогорок: они не лезут под машину, реагируют на сигнал и даже, завидев издалека автомобиль, сами степенно сворачивают с дороги.
Пойменные луга здесь порою узки, как полочки, они ограждены аккуратными изгородями и разделены на загоны. Уровень воды в реке на несколько метров ниже уровня поймы, и следы подъема воды на русловых берегах показывают, что эти луга не заливные или по крайней мере заливает их не каждый год. Они и не влажные, ибо почвенный слой развился здесь на известняках, и грунтовые воды далеки. Богатство травостоя в этих местах несомненно связано с относительным обилием атмосферных осадков. Летние дожди в северной части Архангельской области довольно часты, выпадают они обычно мелкими быстролетными ливнями, и вслед за ними сразу же опять сияет солнышко. Только при удалении от моря за 150 километров заметно повышается сухость.
На зеленых островках, обычно поднимающихся из воды не менее чем на три метра, тоже видны исправные изгороди: там пасут привезенный на судах скот и косят сено. На возделанных полях мало зерновых посевов, зато картофель растет везде довольно обширными и хорошо обработанными плантациями.
А по реке все караваны — низенькие толстобокие буксиры тянут за собой длинные сигарообразные плоты. Вот показалось вдали серое ожерелье большой запани. Въезжаем в поселок, состоящий почти сплошь из совершенно новых брусчатых домов. И все же он выглядит неприветливо — не видно зелени, а проезжая дорога и улицы до того исковерканы всеми видами буксовавших здесь колес, что возникает одно желание — поскорее выбраться отсюда. И даже вывеска столовой не в силах заставить нас остановиться в поселке Брин-Наволоцкой запани.
Дорога ведет все дальше на юг. Она пролегает теперь по верхней террасе, река под нами далеко внизу. Иногда мы въезжаем в сосновый молодой лесок, мягко катим по желтому песку, и мелкие камешки, поднимаемые с дороги рифлеными баллонами нашего газика, барабанят по его брюху, заставляя шоферское ухо настораживаться.
Но вот справа на холме за селом Большая Гора замаячили белые хоромы древнего Сийского монастыря, превращенного в дом отдыха, где проводят свои отпуска речники и лесорубы. Слева у впадения речки Сии сверкнула в последний раз широкая лента Северной Двины и скрылась за стеной леса, теперь уже окончательно. Перед нами лежали лесные просторы Онего-Двинского водораздела.