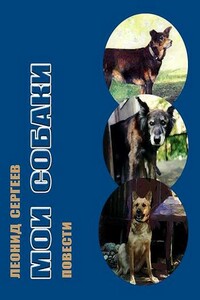В облупленную эпоху | страница 70
А еще она всегда что-то продает и всегда покупает что-то, но это только видимость, на самом деле она ничего не продает и ничего не покупает — она так живет. Сбагрит, например, вещь какую-нибудь, а потом жалко ей становится: свое ведь, родное, столько лет хранимое, сейчас такое уже нигде не найдешь, — продешевила, думает, даром отдала, облагодетельствовала без повода и причины, и идет выклянчивать обратно, выклянчив, тут же находит порчу и оскорбленно забирает вещь, а сумму возвращает не полностью: «Таки испортили вже», и нет на свете никаких доказательств обратному.
Ну а если купит чего, то обязательно расколупает, надорвет, проверяя на прочность, откусит, пробуя на зубок, и плачется тогда, убивается, как не стыдно, мол, старого больного человека обидели, сволончи-сволончи. Делать нечего, только и остается — с удивлением и восхищением, восторгом каким-то ненормальным, — оставаться при своем драном-кусаном товаре и без денег. Скорее всего, от скуки люди с ней связываются: стало тоскливо жизнью жить — затей торговлю с тетей Фаней и тоски не знай.
— Ой, девоньки, у меня волос в дуб встал, щоб я так жыл! — приговаривает она, когда чья-нибудь человеческая тупость беспросветная приводит ее в изумление.
— Танькам, — на днях приставала она к внучке, — а кто это голубые?
— Да зачем те, баб?
— Да тут по телевизеру все голубые да голубые, — я не понимаю, что это такое!
— Ну-у-у это, баб, мужики, которых сзади…
— Где?
— Ну в жопу их.
— Тьфу! Так бы и говорили, что пидарасы!
И снова — волос в дуб… щоб я так жыл!
Схватит во дворе зазевавшегося подростка за руку и доверительно, голосом вроде и интимным, но громко так, чтобы все вокруг, даже прохожие, ни в чем не повинные, слышали, говорит:
— Витькам, прости мне за скромность, но там, на пятом этаже, одни жыды живут!
— Баб Фань, так и мы же на пятом!
— Ты понимаешь теперь, как нам тяжело?!
И сверкает веселым золотом ее рот.
Двор — это ее подмостки. Душным, змеящимся от зноя летом, невыносимым из-за скопившейся в атмосфере и не ведающей, куда ей деваться, воды, она выходит нарядная, облитая какими-то жуткими непроницаемыми духами. Ярко-красным лаком горят ногти на ее руках и на круглых пальцах ног, обутых в дорогие белые германские босоножки. Алые тонкие губы складываются и вытягиваются в довольную собой улыбку, и на них влажно поблескивают валики скатавшейся помады. Рубины на черной толстой нитке вбирают в себя солнце и разливают его мягким бликующим розовым цветом по чуть вспотевшей шее, густо-нарумяненным щекам и крупному величественному носу. Фаня становится под большим порченным гусеницами тополем, взрывающем двор своей массивной пыльной фигурой, и, расставив ноги и вдавив в переспелый бок скулаченную руку, хозяйственно следит, чтобы все было правильно и красиво. Ее собственное представление о красоте деспотично и бескомпромиссно, при том, как и полагается, истово и яростно охраняемо, и мало какая еще красота на этой земле может похвалиться такой нерушимой верой в себя. Когда ей становится слишком жарко или по какой-то иной причине, она разворачивает бумажный китайский веер, немного затертый по верхнему краю, и важно обмахивается им, при этом стараясь, чтобы локоны, обрамляющие высокий лоб, изящно взлетали. И даже дворовая грязь не смеет прикоснуться к ее неправдоподобным германобосоножным ступням. В такие моменты она прекрасна.