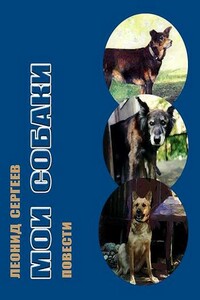В облупленную эпоху | страница 69
Замужем Фаня бывает постоянно, но отчего-то так получается, что через недолгий промежуток счастья мужья ее скоропостижно умирают, несмотря на то, что она любит их, каждого любит по-настоящему. Когда Фанька выводит мужа под руку во двор — оба степенные, статно ступающие, с поднятыми подбородками и выпрямленными плечами, — ей кажется, что все вокруг: Надька-дура, соседки, которые никогда не моют пол в колиндоре, Ирка-гордая — все эти уроды пухнут от зависти, глядя на них из своей убогой, коммунальной, коммуновской жизни. Осознание этого греет ее и возвышает над затхлым застоявшимся бытом, как стрекозу солнце, раздувающее теплом полое насекомое тельце и поднимающее ее, стрекозу, над легкой зыбью спящего озера. Несмотря на то что она уже далека от сочной молодости, совсем не молода телом, ей все нипочем, вернее, она знает, что почем, знает цену себе, знает цену всему, для нее нет бесценных вещей.
— Кому не нравится, что я подставляю свою п…, пусть подставит свой рот, — говорит она, громко хохоча, закидывая голову и звонко хлопая себя по бедрам так, что начинает колыхаться искрящийся пылью воздух вокруг нее, стены вспыхивают солнечными зайчиками, и от этого всем становится тоже неприлично смешно и как-то неловко:
— Да чего там, чего там, нам нравится…
Она разговаривает матом, и в этом непревзойденна. В этом ее натура, отвергнувшая все ненужное, условное и фальшивое, все то, что напридумывало себе современное общество, натура, знающая силу слов и богатство интерпретаций.
— Ба-аб, дай денег, я мелирование сделаю, — выпрашивает Танька, внучка.
— Що?! Сначала тебе мелирование, потом мандирование, а потом и на мужика денег попросишь?!
Многие ее высказывания подхватывались обитателями дома, всеми, кто способен был что-либо подхватывать, и передавались каждым, кто способен что-либо передавать, из уст в уста, перча их и пороча. Наиболее афористичное высказывание обретало крепкие непрозрачные крылышки и влетало даже в самые юные нежные уши и, жужжащее, билось там, уча житейскому разуму. Иногда даже трудно было вспомнить, тетя Фаня это придумала, или так всегда говорили в Коммуне.
Но основное свое жизненное назначение она обретала в скандале. Любой узревший скандал с участием Фани мог бы утверждать, что артистизмом и трагичностью он превосходит любую корриду.
— О-о-о-о!!! — Голос ее звучит многогранно, одновременно он и скрипит и звенит, стонет и мечется, в нем и печаль поет светлая, и — присвистом — безысходная тоска. — Серде-е-енько мое-о-о, божемой-божемой, убилименясовсемуби-и-ыли! — бьется она над одним из крашенных синим и давно облезлых сундуков для картошки и разного хлама, которыми заставлен длинный коридор на этаже. — Шуркам, сук такой, поставила свой ящик сюда, а мой возле труба! Все сгниет, горемне-горе! — И, низенькая, обхватывает цепкими белесыми ручонками деревянного неповоротливого урода и волочит его на место, вихляя на ходу всем телом, отпихивая, отсеивая подступающих со всех сторон враждебных старух. А ведь может и без скандала просто в лоб заехать, что с нее возьмешь, это ж Фанька.