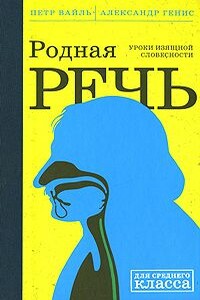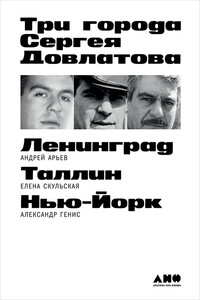Уроки чтения. Камасутра книжника | страница 77
Братья Коэн пишут столь же искусно, но иначе. Их стиль – юмор с каменным лицом, который в Новом Свете лучше всех давался Бастеру Китону, а в Старом – Швейку. Их фильмы я смотрю дважды. Первый раз – желая узнать, что говорят, второй – чтобы услышать как. Монотонность Коэнов прячет остроту́ и служит остро́той. Другие не хуже. Вуди Аллен пользуется монологом, хороня в многословии смешное и нужное. Олтман строил текст из наложений: когда все говорят разом, смысл не в словах, а в их сумме.
Сегодня хорошее кино умеет рассказывать лучше писателей, потому что лучших оно переманивает к себе. Экран сгущает и экономит. В сущности, это – те же тонкие книги, но на чужой территории.
Для толстых книг есть телевизор, и, вопреки тому, что считают в Интернете, я думаю, что его время еще только началось. Каждый раз, когда прогресс припирает очередную музу к стенке, ее спасает живительная метаморфоза. Вместо того чтобы убить живопись, фотография, как краску из тюбика, выдавила из нее импрессионизм. Когда кино покончило с реалистическим театром, появилась голая сцена драмы абсурда. Когда Сеть отобрала у телевизора сплетни и новости, ему остался сериал. Его призвание – та роль, которую раньше играли толстые книги.
Толстая книга размножается грибницей, и задача автора состоит в том, чтобы читатель, наслаждаясь наружными плодами сюжета, постоянно ощущал натяжение питающих его корней.
Тонкая книга скачет, толстая бредет. Одна берет интенсивностью, другая – размахом. Тонкая – скульптурна, толстая – аморфна, а также – нетороплива, бездонна и не требует конца. Такую, пожалуй, пока удалось создать лишь однажды: “Декалог” Кесьлевского. И я всегда о нем вспоминаю, когда слышу про “смерть автора”. Писатель не умрет, пока у него есть читатель – даже если он станет зрителем.
19. Контакт
Антиутопию может написать каждый. В сущности, сама жизнь – антиутопия. Она начинается с любви, а кончается смертью. Поэтому наиболее радикальная утопия отменила конец совсем и навсегда. В моем пионерском детстве об этом мы, понятно, не задумывались, удовлетворяя тягу к потустороннему научной фантастикой. (Глупее других были отечественная “Голова профессора Доуэля” и американский “Ральф 124С 41+”.) Нанесенный в детстве урон оказался невосполнимым: я до сих пор люблю фантастику и тайком отождествляю ее с коммунизмом. Хотя в первой “научного” было не больше, чем во втором, она вправе так называться, ибо героем обоих был ученый.