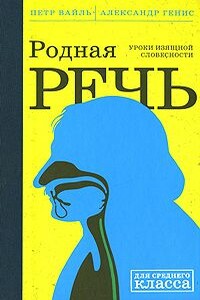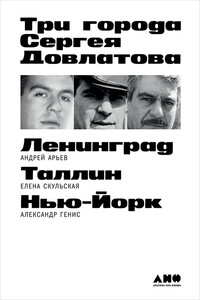Уроки чтения. Камасутра книжника | страница 76
Если бы Толстой с Достоевским жили сегодня, они бы сочиняли сериалы, не дожидаясь, пока их экранизируют. Великие романисты мыслили поступками и сочиняли образами. Они меньше современных писателей зависели от букв, ибо что рассказать им было важней, чем как. В сущности, вся плоть романа, его философия и идея вырастали из действия, олицетворялись с персонажами и выражались прямой речью. Поэтому в лучшем из всех романов легко увидеть прообраз будущего. В “Войне и мире” Толстой поженил семейную историю с обыкновенной и произвел неожиданное потомство: мыльную оперу. Условие ее успеха – паритет личной и мировой судьбы. Уравненные сюжетом, они возвращают личности достоинство, отнятое ходом безликой истории. И даже повторенный мириад раз этот опыт не так уж далеко отошел от источника, во всяком случае, когда в сценарии упоминается история.
Старея вместе с XX веком, телевизор оказался старомодным средством повествования, что позволяет ему в XXI веке взять на себя роль толстых романов. Сегодня их надо не писать, а ставить. Примерно так, как советовал Булгаков в “Театральном романе”:
Тут мне начало казаться, что по вечерам из белой страницы выступает что-то цветное. Присматриваясь и щурясь, я убедился, что это картинка. И более того, что картинка эта не плоская, а трехмерная. Как бы коробочка, и в ней сквозь строчки видно: горит свет и движутся в ней те самые фигурки, что описаны в романе.
Перевоплощение литературы в сериал возвращает ее к своему истоку, к тому зрелищу, которое – по Булгакову – открывается внутреннему взору автора. Линейное становится объемным, длинное – обозримым, повествование – экономным и нескончаемым.
Нарезанный на ломти вечеров сериал занимает то место, которое телевизор отнял у романа, чтобы опять вернуть. Два часа у экрана – как песнь Гомера у костра. Литература ведь не всегда требовала грамоты и уединения. Поэтому сериал – не только загробная жизнь книги, но и ее эмбрион.
По старой привычке отождествлять страну с ее писателями соотечественники меня иногда спрашивают, кто лучше всех пишет в Америке. И я отвечаю им честно, как могу: “Квентин Тарантино и братья Коэн”.
Как раз поэтому их нельзя смотреть по-русски, во всяком случае, до тех пор, пока лучшие американские фильмы не станут переводить так же хорошо, как лучшую американскую прозу, из которой, собственно, и выросли эти кинематографические диалоги.
Скажем, у Тарантино, как у Хемингуэя, никто никогда не говорит о главном, важном или хотя бы происходящем. Чем острее ситуация, тем глупее разговор ведут убийцы и их жертвы. Умная асимметрия образа и речи остраняет и то и другое. Тарантино нагружает диалог, как слово, вырванное щипцами. Речь тут наделяется не смыслом, а значением. При этом смешное не контрастирует со страшным, а является им. В результате текст бьет по всем рецепторам сразу – как крик и песня. Характерно, что саундтрек “Бульварного чтива” включает наравне с музыкой из фильма и знаменитые диалоги из него – о том, как называется сандвич по-французски и почему нельзя есть собак.