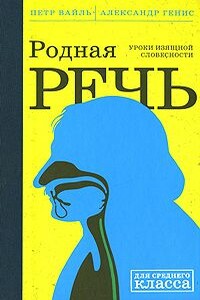Уроки чтения. Камасутра книжника | страница 128
Чтобы втиснуть дух в тело, Гессе предлагал (и практиковал) особую медитацию. Не ту, что в обход сознания напрямую подключает нас к Космосу, а некое умственное усилие, ведущее вглубь созерцаемого и соединяющее с ним. Видимо, так Гегель понимал проложенный им путь философа: слившись в акте глубинного познания с Абсолютом, он, Гегель, сам стал им.
Игра в бисер, однако, мельче и строже. Она ищет конкретного и разного, а не универсального и единого. Игра – не религия, хотя тоже меняет жизнь. Игра – не философия, хотя признает все ее школы. Игра – не откровение, хотя считает себя единственным выходом. Она – Игра, и я догадываюсь о ее цели, когда, начитавшись до одури, пытаюсь отключить в себе сегодняшний день, чтобы попасть во вчерашний – и почуять его, в том числе – носом. Иногда мне и впрямь чудятся запахи чужой культуры, отчего она, конечно же, становится своей.
Что же такое Игра в бисер? Даже изучив ее правила, трудно понять, как уместить бесконечный хаос культуры в замкнутую и обозримую форму. Понятно, что для этого не годится путь, которым идет энциклопедия, эта интеллектуальная версия “Робинзона”, всегда пытающаяся перечислить мир и никогда не поспевающая за ним. Другое дело, думал я, интеллектуальный роман, позволяющий запечатлеть дух времени и сыграть его на сцене эпического полотна.
Расставшись с Гансом и Гретой, Томас Манн и Роберт Музиль пытались замкнуть мир, воссоздав его центральные идеи. Первый раздал их персонажам, как маски в комедии дель-арте, второй повесил идеи на стены сюжета, как шпалеры в замке. (У Достоевского идеи насилуют героев, у Толстого подаются отдельно, у Чехова их нет вовсе, за что на Западе его любят больше всех русских.) Для Игры в бисер, однако, такие романы слишком длинные.
Игра оперирует аббревиатурами, а это – задача поэзии. Не всякой, и даже не лучшей, а той, что от беспомощности зовется философской и пользуется узелковой письменностью перезревшей – александрийской – культуры. Такие стихи – интеллектуальный роман, свернутый в ребус, итоговая запись умершей культуры, которую поднял на ноги поэт, которого лучше всего назвать Мандельштамом.
В четыре, лапидарные, как морзянка, строки он мог вместить всю описанную Шпенглером “фаустовскую” культуру Запада: