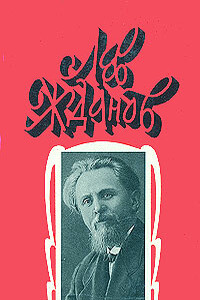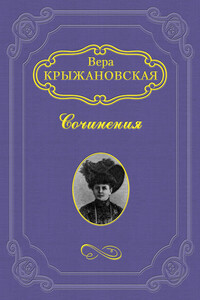Мой Петербург | страница 104
А что в действительности стоит за этим названием? Ведь его можно стереть с карты, переделать вывеску на вокзале. Но ещё есть течение жизни, её приливы и отливы; есть ветка Балтийской железной дороги, проложенная почти полтора века тому назад. И некое дыхание местности, складывающееся из шелеста листвы, близости Финского залива, от налетающего ветра, от запаха земли и воды.
Может быть, это особенное дыхание почти не изменилось с тех давних времен, когда вся местность на южном берегу Финского залива от речки Лиговки до Каравалдайского озера была заселена новгородцами Вотской пятины, и в земском управлении новгородского государства составляла Дудоровский погост Новгородского уезда?
А потом по Столбовскому трактату 1617 года на всех картах этой местности стало написано: «Ингерманландия». И было дозволено русским дворянам, боярским детям, монахам и посадским людям в течение двух недель переселяться в Россию. Но их много осталось тогда в этих местах. И как часто история повторяет сама себя…
Если рассмотреть планы 1667 года владений Иоганна Скитте, которому принадлежала вся прибрежная часть Дудоровского погоста, можно увидеть, что от устья Лиговки до нынешнего Ораниенбаума насчитывалось тогда уже до двадцати населённых мест. Берега Финского залива были угрюмы. Вдоль берега, в нескольких саженях от моря тянулась дорога, едва проложенная одноколками местных жителей. Других, более удобных сообщений, не было, и однообразие суровой природы лишь изредка нарушалось видом немногих избушек, крытых соломой. В таком состоянии находилась эта местность ко времени, когда в 1706 году в нескольких письмах Петра I появилось новое название селения Дудорово — «Дудергоф». С тех пор всё стало стремительно меняться.
И через сто восемьдесят лет начальник станции в Красном Селе Александр Петрович Верландер, человек просвещённый и большой любитель этих мест, составляя свой знаменитый путеводитель по Балтийской железной дороге, с восхищением и доброй иронией указывая на достоинства и недостатки окрестностей, настойчиво приглашал не только посетить Лигово-Гатчинский и Петергофский участки, но стремился способствовать «переселению обывателей столицы за город, в деревню, где жизнь ближе к природе и проще, а следовательно, здоровее и дешевле».
На эту жизнь, которую описывает Верландер, легло ещё более ста лет, и многое стёрлось, ушло безвозвратно. Но есть какие-то удивительные возвращения, странные свидания. И жизнь причудливо прорастает в том же самом месте, не ведая, из какого далека пробился этот росток.