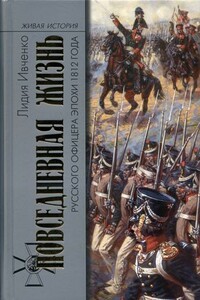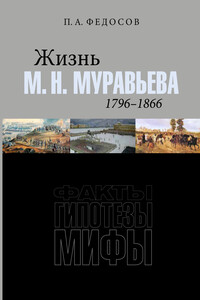Кутузов | страница 56
Глава четвертая
«БЕСЦЕННЫЙ ОПЫТ»
Итак, 1 марта 1762 года инженер-прапорщик Михайла Голенищев-Кутузов вырвался из-под крыла школьных наставников и сделал первые самостоятельные шаги в военной карьере. Биографы полководца, называя имена и даты, оставляли без комментария исторический контекст событий, сопутствовавший раннему периоду службы. Следует обратить внимание на важное обстоятельство, с которым до тех пор не сталкивалось ни одно поколение служилых дворян. В отличие от своих предков Кутузов получил возможность свободно выбирать судьбу: при желании он мог избежать всех неудобств и опасностей военной службы, а его первый офицерский чин мог стать для него последним, если бы наш герой вышел в отставку и зажил помещиком в деревне среди «людей, исключительно занятых собаками, разными птицами, страстными охотниками до боевых гусей». За десять дней до нового назначения Кутузова, 18 февраля 1762 года, Петр III подписал знаменитый Манифест о вольности дворянской, после чего стало очевидно: как бы ни крепла зависимость дворянства от самодержавия, но поводок, на котором «гуляло» благородное сословие, отныне стал значительно длиннее. Дворяне получили право «служить и выходить в отставку по собственному желанию, жить, где угодно, в России и за границей и учить детей, чему и как хочет. Хотя последнее право было вскоре опять отчасти ограничено, но этот Манифест есть действительно важнейший акт в развитии прав и привилегий дворянства: он именно обращал его в сословие привилегированное, наделяемое особыми правами, из сословия служилого и несшего службу, иногда действительно очень тяжелую, ибо, не говоря уже об отдельных тягостях военной службы, и по ограничении ее двадцатипятилетним сроком, бывали случаи даже переселения дворян из одного места в другое в видах правительства и по его лишь предписанию, без согласия переселяемых…»>1.
Вообразим смятение юного Кутузова, на глазах которого произошло событие, в корне изменившее представления многих дворян о «смысле жизни», где до сих пор основное место отводилось службе. И вот теперь, «по силе указа», им была дарована воля, которой многие не преминули воспользоваться: «тотчас же все дороги из Петербурга и Москвы покрылись дворянами, которые оставили службу и спешили по своим домам, и таким образом явились в провинции, по всем углам России, люди еще не старые, какими, бывало, приезжали дворяне в деревню прежде…»>2 Правда, слухи об Указе о вольности ходили разные; говорили, что Петр III, «объявив, что ночью будет заниматься государственными делами с секретарем Волковым, отправился к любовнице, а Волкову велел не выходить и писать все, что угодно». Секретарь и составил закон о дворянских вольностях, которым, по словам А. С. Пушкина, «наши предки гордились и которого скорее следовало бы стыдиться». Но «впервые в русской истории закон запрещал пороть хотя бы какую-то часть населения»