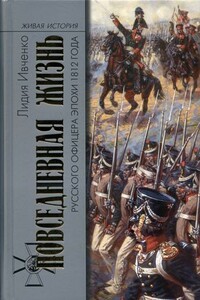Кутузов | страница 43
«Век осьмнадцатый» был наполнен именами и событиями, без которых невозможно представить М. И. Кутузова, прожившего сорок с лишним лет до того, как привычный для него старый мир был безжалостно сметен революцией во Франции и Наполеоновскими войнами. Но даже эти грандиозные события не уничтожили память. Биографы полководца не обращают особого внимания на то, как много он оставил в прошлом, не только с точки зрения военных побед, дипломатических и придворных успехов. В прошлом сформировались его знания, убеждения, привычки, взгляды на жизнь, манера поведения, с которыми Кутузов не расставался до конца своих дней. В начале XIX столетия многое из того, чем он дорожил и от чего не хотел отказываться, вызывало порицание и даже отвергалось. Но по меркам XVIII столетия Кутузов был идеальной моделью «просвещенного дворянина», созданного наставниками по «проекту» Петра I в царствование его дочери Елизаветы Петровны и вступившего в большую жизнь при Екатерине П. Впоследствии он не собирался начинать жизнь с чистого листа, как это делали революционеры всех времен, отказываясь от прошлого. Он знал, его так учили, что прошлое — опора в настоящем и уж кто-кто, а он сможет с Божьей помощью применить свои знания и способности в другую эпоху при худших обстоятельствах…
Жизнь в столице — это не только благоприятная возможность для карьеры и сказочная роскошь дворцовых забав, это еще и ценнейшая возможность получить лучшее чем где бы то ни было образование, получить доступ к книгам, встретиться со знаменитыми людьми, наконец, посетить театр. На протяжении всей своей жизни Михаил Илларионович очень любил театр. Именно в середине XVIII века закладывались основы русской оперы и русского балета. Причем опера в середине века могла продолжаться четыре часа, включая в себя, кроме сольного и хорового пения, декламацию и балет. Постановки поражали своим великолепием: гигантские живописные декорации, нарядные платья актеров, совершенство музыкального сопровождения… К этому добавлялась сложная система театральных механизмов. Основному представлению предшествовал так называемый пролог на актуальную тему. Так, в 1759 году в честь тезоименитства императрицы Елизаветы Петровны и победы русской армии при Кунерсдорфе был поставлен пролог под названием «Новые лавры». Автором либретто был знаменитый драматург А. П. Сумароков. Как знать, не было ли в числе зрителей и нашего героя, который в то время уже находился в Санкт-Петербурге? Огромный хор славил Елизавету, балет сочетался с игрой знаменитых драматических актеров, в том числе Федора Волкова и Ивана Дмитревского. Само действие было чрезвычайно сложным: во время пения «облака закрывают богов, а потом расходятся и открывают Храм славы. Во храме видима сидящая Победа с лавровою ветвию и россияне, собравшиеся торжествовать день сей. Потом слышно необыкновенное согласие музыки. Является российский на воздухе Орел. Россиянин приемлет пламенник и к себе других россиян созывает воспалите благоухание. Нисходит огонь с небеси и предваряет предприятие их. Орел ниспускается и из рук Победы приемлет лавр». Кому мог быть понятен этот тяжеловесный, перегруженный аллегориями «официоз»? Но образованный человек XVIII века легко читал язык символов, с помощью которых он мог выразить любое событие. Определенные требования предъявлялись и к актерской игре: театральный зритель той эпохи не смог бы смотреть современный спектакль, он просто не понял бы происходящего на сцене. Достаточно обратиться к «Рассуждениям о сценической игре» Ф. Ланги, чтобы понять разницу во вкусах между современными «театралами» и поклонниками Мельпомены того времени. На сцене запрещалось «подражать простому естественному разговору, в котором собеседники имеют в виду только друг друга». Прежде чем ответить на услышанные слова, актер должен был игрою изобразить то, что он хочет сказать, так, «в сильном горе или в печали можно и даже похвально и красиво, наклонясь, совсем закрыть на некоторое время лицо. Прижав к нему обе руки и локоть, и в таком положении бормотать какие-нибудь слова себе в локоть, или в грудную перевязь, хотя бы публика их и не разбирала — сила горя будет понятна по самому лепету…». Каждый человек живет по законам своего времени. Можно себе представить, с каким волнением Кутузов следил за тем, как актер при удивлении «обе руки поднимает и прикладывает несколько к верхней части груди, ладонями обратив к зрителю», а при отвращении обязательно «поворачивает лицо в левую сторону, протянув руки, слегка подняв их в противоположную сторону, как бы отталкивая ненавистный предмет».