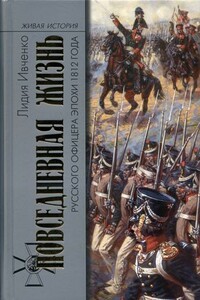Кутузов | страница 42
. Е. В. Анисимов справедливо замечает: «То, что строки о более „рациональной“ порке крестьян и строки осуждения фаворитизма двора написаны одной рукой, не должно нас удивлять». Это еще один пример того, что у каждого явления российской жизни в те времена, как, впрочем, и в любые другие, была не только «лицевая», но и «оборотная» сторона. Может быть, поэтому в те годы многие просвещенные дворяне, уходя от крайностей в суждениях, сознательно вырабатывали в себе философское отношение к окружающему миру. Как тут не вспомнить слова историка, призывавшего «прикинуть, сколько поколений, сколько пра-пра… разделяет нас и тех прямых предков, которые в 1700-х годах, так же как и мы, радовались солнцу и лесу, любили детей, были потомков не глупее, мечтали о лучшем, скорбели о невозможном…»>17. По словам А. И. Герцена, в XVIII веке «власть и мысль, императорские указы и гуманное слово, самодержавие и цивилизация» шли рядом. Писатель-революционер восклицал: «Их союз даже в XVIII столетии удивителен!»>18 Да, удивителен, но тем не менее он существовал, как существовали командиры полков, тратившие личные деньги на их содержание, и главнокомандующие армиями, кормившие за своим столом весь свой штаб. Как рассуждал исследователь, «…отрицая историческую роль русского дворянства, мы рискуем впасть в крайность. Психология служилого сословия была фундаментом самосознания дворянина XVIII века. Именно через службу сознавал он себя частью сословия. Петр I всячески стимулировал это чувство — и личным примером, и рядом законодательных актов. Вершиной их явилась Табель о рангах. <…> Табель о рангах устанавливала зависимость общественного положения человека от его места в служебной иерархии. Последнее же в идеале должно было соответствовать заслугам перед царем и отечеством. Показательна правка, которой Петр подверг пункт третий Табели. Здесь утверждалась зависимость „почестей“ от служебного ранга: „Кто выше своего ранга будет себе почести требовать, или сам место возьмет, выше данного ему ранга; тому за каждый случай платить штрафу, 2 месяца жалования“. <…> Одновременно с распределением чинов шло распределение выгод и почестей. Бюрократическое государство создало огромную лестницу человеческих отношений, нам сейчас совершенно непонятных»>19.
Первым признаком того, что юный дворянин движется в правильном направлении к своему возвышению, являлась служба при штабе влиятельного вельможи. Судя по всему, Илларион Матвеевич Голенищев-Кутузов сделал все от него зависящее, чтобы его сын был замечен и по достоинству оценен представителями высшего общества Северной столицы. Юный Кутузов был на отличном счету у могущественного графа П. И. Шувалова, он даже был зачислен в свиту ближайшего родственника Петра III, который, как известно, любил Голштинию гораздо больше, чем Россию. «Отличные дарования, исправность в службе и примерная расторопность Кутузова, — достоинства, кои во всякое время были одними из лестней-ших украшений юных воинов, не замедлили обратить на него внимание начальства…»
Книги, похожие на Кутузов