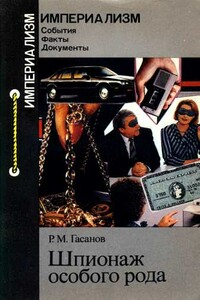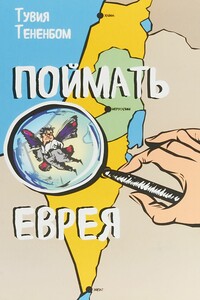Петербург-Москва-Петушки, или 'Записки из подполья' как русский философский жанр | страница 7
Человеческий дух в роли "сумасшедшего фортепиано" либо придает привычным смысловым, нормативным и ценностным структурам конфигурацию разномасштабных ризом, либо же просто поглощает и растворяет их в себе. На том месте в его субъективном пространстве, где должны располагаться устойчивые конструкты традиционных смыслов, норм и ценностей, воцаряются хаос и тьма. Возникает впечатление, будто густой, клубящийся мрак, поднявшийся из глубин "подполья" самого Мирового Духа, заполняет его чертоги. Там, где должны присутствовать иерархии социальных предписаний и царить рациональности ясных императивов вместе с очевидностями отчетливых смысловых конструкций, начинают господствовать диссонансы и хаос. В этой сумбурной непросветленности переворачиваются смыслы и распадаются нормы, осуществляется беспорядочное брожение, происходят странные аберрации, флуктуации и смешения, поражающие своей неодухотворенной абсурдностью.
Диалог, в отличие от социального взаимодействия, не является онтологемой. Характерное для Бахтина стремление толковать диалог именно в онтологическом ключе несет на себе явную печать западной рационалистически-прагматической модели коммуникации. А из нее как раз элиминирована та аксиологическая суть, которая возносит диалог над заурядной коммуникативной прагматикой. В этой модели диалог не рассматривается как нормативно-ценностный образец должного и желаемого. И это не случайно: за подобным подходом просматривается полубессознательная уверенность западного и, частично, российского духа в принципиальной невозможности диалога, осененного высшими смыслами бытия. Действительно, о каких диалогах может идти речь в мире, который не просто продолжает "лежать во зле", а погрузился в него со времен Христа еще глубже.
Существует ряд абсолютных ценностей, издавна азбучно обозначившихся в человеческом сознании и в текстах мировой культуры. Это любовь, истина, добро, красота. Не исключено, что диалог тоже когда-нибудь займет в этом ряду свое место, ибо что может быть прекраснее и невозможнее его? Он - то лоно, внутри которого могли бы рождаться и любовь, и истина, и красота, и добро. И если они не рождаются в нем, то это все, что угодно, но не диалог. Материнское, живородящее лоно и бесплодное, иссохшее чрево могут одинаково называться, но их сути несопоставимы, ибо различны в самом главном. Позитивная схематика социального взаимодействия не тождественна метафизике полноценного диалога. Рождаемые ими плоды несопоставимы по своей значимости. Говоря иными словами, с позиций аксиологического и нормативного максимализма диалог - это идеал, образец должного, но не стереотип сущего.