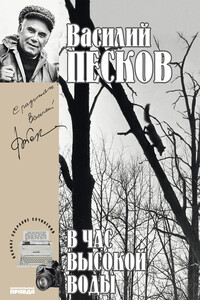Петербург-Москва-Петушки, или 'Записки из подполья' как русский философский жанр | страница 6
Нельзя не обратить внимания на ту особую обстановку, что окружает Подпольного господина, и в первую очередь на "угол", в котором вынашивались его грандиозные "мыслепреступления". Разве в таких "углах" можно научиться диалогам? На память приходит одно из откровений Ван Гога, касающихся его картины "Ночное кафе". Он пытался показать, что кафе - это место, где можно погибнуть, сойти с ума или совершить преступление... Пытался, сталкивая контрасты нежно-розового с кроваво-красным и винно-красным, нежно-зеленого веронеза с желто-зеленым и с жестким сине-зеленым, воспроизвести атмосферу адского пекла, цвет бледной серы, передать демоническую мощь кабака-западни. Не менее мрачным, чем вангоговское кафе, предстает и "угол" Подпольного господина, соединивший отчаяние одиночества с режущими слух манифестами духа, обезумевшего от непомерной гордыни. Такими же "углами", рождающими темное вдохновение, мрачную готовность к преступлениям, предстают и теснящий душу Петербург Раскольникова, и вселенский, упирающийся в вечные льды "угол" России Достоевского, подобный гигантскому Скотопригоньевску, занявшему половину Европы и половину Азии. Все эти "углы" - топографические символы невозможности диалогов, которым препятствует сама онтология. Одновременно это и символы возможности и даже роковой неизбежности преступлений, совершению которых та же самая онтология способствует самым фатальным образом.
Дидеротовский образ "сумасшедшего фортепиано", исторгающего режущие слух диссонансы, как нельзя лучше подходит к тону рассуждений, господствующему в "Записках". Но эти диссонансы можно в равной степени считать эпитафией эпохе классики и увертюрой к эпохе модерна с ее "инорациональными" гармониями. В этом отношении уместно напомнить примечательное высказывание Г. Чичерина в его исследовании о Моцарте: "Наши дядюшки говаривали: "Мы говорим - фальшивые ноты, вы говорите - диссонансы". Я иду дальше и утверждаю: "Мы более не говорим - диссонансы, мы говорим - новая гармония". Для культуры XVIII века диссонансы были фальшивыми нотами. Начавшаяся с Моцарта новая музыкальная культура говорила о диссонансах и широко применяла их. Нынешняя новейшая музыкальная культура уже не знает диссонансов: для нее есть "новая гармония". Моцарт был тот, кто открыл период диссонансов, перешел в этом отношении через водораздел" [Чичерин, 1979]. Но если Моцарт лишь открыл, а точнее было бы сказать, приоткрыл, вход в эпоху диссонансов, то Достоевский в лице Подпольного господина превращает диссонанс в ключевую формулу мироотношения, а дисгармонию - в единовластную модель состояний мироздания и внутреннего мира человека. Этим он распахнул врата в эпоху модерна, когда диссонансность, переходящая в хаотичность культурного сознания, стала сигнификатом его стилевой недиалогичности и экзистенциальной одинокости.