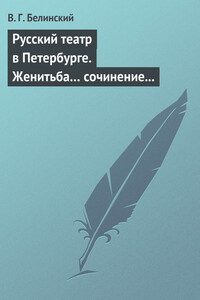Том 2. Литературно–критические статьи и художественные произведения | страница 57
Таким образом на некоторой степени совершенства искусство само себя уничтожает, обращаясь в мысль, превращаясь в душу.
Но эта душа изящных созданий — душа нежная, музыкальная, которая трепещет в звуках и дышит в красках, — неуловима для разума. Понять ее может только другая душа, ею проникнутая. Вот почему критика произведений образцовых должна быть не столько судом, сколько простым свидетельством, ибо зависит от личности и потому может быть произвольною, и основана на сочувствии и потому должна быть пристрастною.
Что же делать критикам систематическим, которые хотят доказывать красоту и заставляют вас наслаждаться по правилам, указывая на то, что хорошо, и на то, что дурно? Им в утешение остаются произведения обыкновенные, для которых есть законы положительные, ясные, не подлежащие произвольному толкованию, — и надобно признаться, что это утешение огромное, ибо в литературе каждого народа встречаете вы немногих поэтов-двигателей, тогда как все другие только следуют данному ими направлению, подлежа критике одним искусством исполнения, но не душою создавая.
Несколько светильников, окруженных тысячью разбитых зеркальных кусков, где тысячу раз повторяется одно и то же, — вот образ литературы самых просвещенных народов. Сколько же приятных занятий для того, кто захочет исчислять все углы отражений света на этих зеркальных обломках.
Но если вообще то, что мы называем душою искусства, не может быть доказано посредством математических доводов, но должно быть прямо понято сердцем, либо просто принято на веру, — то еще менее можно требовать доказательств строго-математических там, где дело идет о поэте молодом, которого произведения хотя и носят на себе признаки поэзии оригинальной, но далеко еще не представляют ее полного развития.
Вот почему, стараясь разрешить вопрос о том, что составляет характер поэзии Языкова, мне особенно необходимо сочувствие моих читателей, ибо оно одно может служить оправданием для мыслей, основанных единственно на внушениях сердца и частию даже на его догадках.
Мне кажется, — и я повторяю, что мое мнение происходит из одного индивидуального впечатления, — мне кажется, что средоточием поэзии Языкова служит то чувство, которое я не умею определить иначе, как назвав его стремлением к душевному простору. Это стремление заметно почти во всех мечтах поэта, отражается почти на всех его чувствах, и может быть даже, что из него могут быть выведены все особенности и пристрастия его поэтических вдохновений.