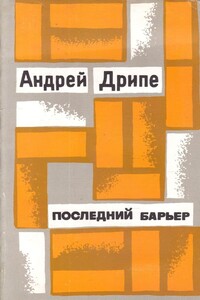Костер в белой ночи | страница 48
Несколько недель мы будем промышлять одни в черно-хвойных, без предела, Усть-Чайкинских урманах, пока не подойдут к нам, охотясь дорогой, Дарья Федоровна с внуками и Гошкой. Легли урманы по земле, густые, то синие, то аспидно-черные, то изумрудно-светлые, легли по земле хребтиками и сопками — словно бы накатистые волны моря-океана. Замерли окованные тишиной ельники, кедровники и сосновые мяндачи — трудно стоят на земле ствол к стволу, крона к кроне. И только у речушек да заметенных по береговой срез ручьев расступятся несколько, потеснится, дадут побелеть чистым телом березам, поиграть мерным серебром ольховникам, вспыхнуть накоротке синему с едва уловимой лиловенькой многоветвью черемух, и снова сомкнутся непроглядной могучей стеной.
Встали мы кочевьем в широком распадке двух хребтов — Малого и Большого Аянчу. Аянчу, объясняет Макар Владимирович, — добрый, хороший.
Хороши хребты — окатисто ушли в небо; Малый, только одно что так называется, под стать Большому. На кочевье три больших чума, белыми вулканами стоят друг против друга. Два потухших, один вытянул в зенит ровный столб сиреневого дыма. Не шелохнется дым, не дрогнет, медленно по прямой уходит ввысь, тает в небе.
Забираюсь все выше и выше по Малому Аянчу. Гляжу вниз. Слушаю, как чем-то постукивает в нежилом чуме Макар Владимирович. Звук, как расколовшаяся льдинка, долго скользит в тишине и замирает едва различимым тоненьким перезвоном в тайге за распадком. Солнце, отяжелевшее, укутанное в белый малахай стужи, легло на вершинный ельник, чуть заметно подрагивает, готовое вот-вот снова скатиться за черную закраинку горизонта. Шуршит под камусным подбоем лыж снег, шуршит, пощелкивает вокруг возмущенный движением воздух.
Покой в мире. Покой.
И только громко, на всю тайгу, бьется мое сердце. Но и в нем покой должного движения. Удар за ударом, удар за ударом — ничто не мешает отстукивать время в груди, проталкивать к каждой клеточке тела живое тепло крови. Удар за ударом…
Я уезжал из дому. Спешил к автобусу, потом к самолету. Мчался над миром, перегоняя время, летел навстречу утру, и стремительно белело небо под дробный рев турбин. Толкался в сутолоке аэровокзала уже далеко от родного города… И снова, уже с меньшей скоростью, пролетал над белой землей, а потом несли меня четыре крыла хлопотливой стрекозки — «Антона», — и снова принимала к себе на грудь земля, и бежали олени Авлакан-рекой, Демой, одной и другой безымянными речушками, озером, тундрами, и снова рекою, и бубном звенела в стеклянном небе луна, и тонко взвизгивал под нартой чуюр — прибитый передними упряжками снег, и весело покрикивал на оленей Макар Владимирович: «Чох-мох», — и все кружилась, кружилась вокруг меня белая земля, откатываясь назад в этом вечном хороводе движения…