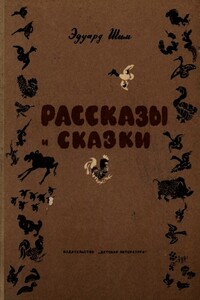Королева и семь дочерей | страница 17
— Ну, подымайся, кочевники! — недовольно сказал Антон Тимофеич.
«Тру-ру-ру… — бурчало в животе у лошади. — Тру-ру-ру…» Тарахтели колеса по невидимым камням, щелкали невидимые копыта, погромыхивала, как жестяная, накидка на плечах Антона Тимофеича. На белом полотне дороги виднелась только голова лошади с угольно-черными ушами; в такт размеренному топоту она качалась, качалась…
Повозка, в которую их посадил Антон Тимофеич, была диковинная, Алешка еще не встречал таких: над парою колес укреплен высокий кузов, сплетенный из прутьев, будто корзина. Вероятно, повозка была состроена для двоих, но теперь, когда в нее втиснулись четверо, приходилось опасаться: того и гляди кувырнешься за бортик. И все-таки хорошо было ехать, зная, что впереди ждет тебя человеческое жилье, тепло, ночлег…
— Из-за тебя, сопляка, — говорил Пашке Антон Тимофеич, — докторша пешком к больному пошла. Ты это сознаешь? И я лишний рейс делаю!
— Никто не просил! — огрызался Пашка.
— Взял моду из дому бегать…
— Все равно не буду среди баб жить!
— Бабой сваи заколачивают. А у тебя в семье — женщины. Слабый пол.
— Хэ! Вы не знаете, какой это слабый!
— То на стройки бегал… На Братскую ГЭС, что ли? То, понимаешь, кочевать направился… — Антон Тимофеич, громыхнув накидкой, ткнул Пашку под бок. — Я чую, откуда ветер подул. Цыгане к нам в колхоз вступили. Восемнадцать душ. Вот он и заразился новой модой… А того не понимает, что и цыган-то нынче перековался, сидячим стал.
— У цыган стольких баб нету! — закричал Пашка.
— Погоди, бабы тебе всыплют. Женщины то есть.
Посмеиваясь, Алешка слушал эти разговоры; внутреннее напряжение понемногу исчезало в нем, он успокаивался, после тревог и волнений наступало какое-то расслабленное полузабытье. От лошади, от накидки Антона Тимофеича пахло дегтем, навозом, кислой овчиной, вздымалась и опадала белая дорога, скрипел плетеный кузов, однообразно, размеренно пощелкивали копыта, плыли на обочинах мокрые кусты, — плыл туман, луна катилась над лесом, пронизывая редкие волокнистые облака и не отставая от повозки. Лишь иногда, минутами, как порыв холодного ветра, что-то тревожное возвращалось к Алешке — безотчетно, смутно, зыбко… Ему чудилось, что он забыл сделать сегодня какое-то важное, необходимое дело, что он опаздывает куда-то… Но слышался рядом голос Антона Тимофеича, дергалась повозка, голова Степы, сидевшего впереди, мягко толкалась Алешке в грудь — и вновь приятное забытье охватывало его. Он вздыхал, удобней устраивался на сиденье, бездумно смотрел, как течет под колеса мерцающая дорога, как мерно кланяется лошадиная голова с настороженными ушами — одно ухо вперед повернуто, другое — назад… «Тру-ру-ру! — бурчало у лошади в животе. — Тру-ру-ру!..» Степа спросил сонно: «Чего это она?» — «Кто?» — «Да лошадь-то…» Антон Тимофеич ответил: «Это в ней реакция происходит. К старости вроде ракеты действует…»