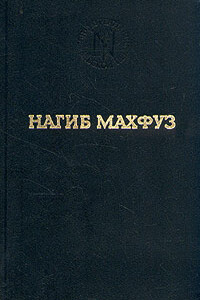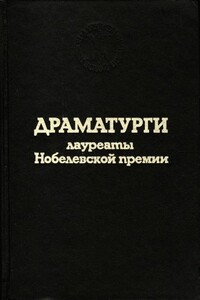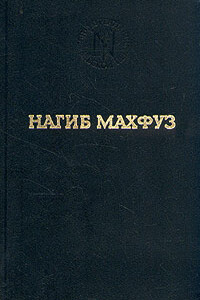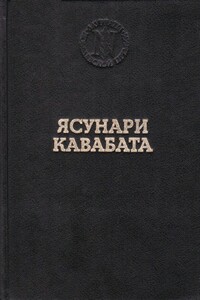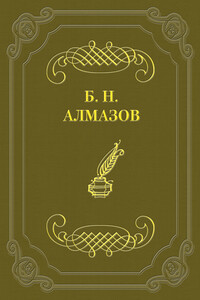Улыбка вечности | страница 40
Они стояли подавленные. Они стояли растерянные, не зная, что им с собой теперь делать, куда теперь податься. Они вдруг сразу лишились всего, что наполняло их существование. Никакие страхи не переполняли их. Никакие тревоги не гнали их вперед. Все завершилось само собою, все было как надо. И никакого повода искать бога у них больше не было. И без него все было понятно, да и понимать-то было особенно нечего. Все было как оно есть.
Наступило глухое молчание, мрачно и пусто было вокруг.
И тогда вышел вперед некто и заговорил голосом хриплым, но проникновенным, он был мал ростом и неряшлив, но, выпрямившись, сразу стал выше, и лицо его, одухотворенное и нервное, передавало все движения души. Он говорил:
Так что же я такое?! Что же я такое?!
Эта жизнь, что мы проживаем в борьбе и страданиях, что нависает над нами непроглядным мраком, сквозь который пытается пробиться наша робкая мысль, жизнь, по которой мы бредем все вперед и вперед, чтобы отыскать наконец общую для всех и каждого истину — она, выходит, ничего такого не содержит и только и делает, что повторяет самое себя. Снова и снова одно и то же, все то же самое, тот же примитивный, убогий смысл, то же жалкое знание, все то же ничто. Мы сражаемся без устали, а выходит, и сражаться-то не за что! Мы терзаем себе грудь; а там, внутри, оказывается, всего лишь сердце, которому назначено биться и умереть, как тысячам до него и после него. Мы ощущаем священный огонь, пылающий у нас в груди, всепожирающее пламя, а это, оказывается, всего лишь то самое горючее, что требуется для поддержания его функции, чтобы оно могло биться; тепло для наших постелей, чтобы мы, бедняги, не замерзли и не испустили дух.
Итак, все это лишь для того, чтоб мы не отдали концы. Чтобы только, не дай бог, не отдать концы! А когда дело идет к закату, нас берут, словно упитанных коров, сжевавших каждая свою порцию жвачки на солнечной земле, и загоняют в стойло, каждую в свое; и единственное, что мы оставляем после себя, — это навоз для травы будущего года. Удобрение, одинаково пригодное для использования, от кого бы оно не осталось.
Я сгораю от стыда. И я восстаю, исполненный отвращения и ненависти. И это называется жизнь! Сплошной обман, просто оскорбление всего того, что я считал самым святым во мне! Сплошное убожество! После этого и жить-то унизительно!
Ни заблуждений, ни скорби. Ни злоключений, ни кровоточащих ран. Ни трепещущего сердца, которому нет покоя. Ничего. Все богатства и горести жизни, все, что наполняло нас страхом и неуемным, гнавшим вперед беспокойством, беспредельной тоской, — все это, выходит, ничто! А то единственное, что имеет какое-то значение, существует где-то вне моего я.