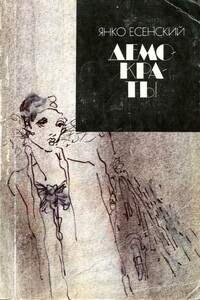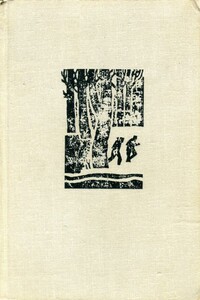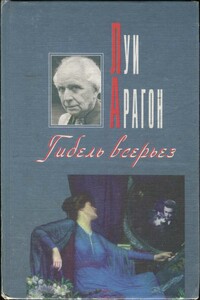Орельен. Том 1 | страница 62
Этим воскресным утром у подножия апокалиптической завесы, по длинной и узкой ленте улицы с обнаженными деревьями, с лужайками без газона, с белыми домами-пещерами, где обитают троглодиты-миллионеры, перекатывалась неспокойной пеной толпа гуляющих; на аллее для верховой езды перед статуей Альфана, вытянувшегося во весь рост в своем известковой гроте, вокруг лошадиных копыт, подымавших ветер, крутились тучи рыхлого песка, смешанного с навозом, и каждый конь нес на своем хребте миллионное состояние или жалкие его остатки. Публика, нет, не просто элегантная, тут это слово неуместно, а сверхэлегантнейшая, пришедшая сюда показать свои туалеты, свои чернобурки, своих китайских песиков или своих ирландских сеттеров, облюбовала для прогулок конец авеню Малакоф, где сейчас было особенно людно. Эта часть проспекта слыла в довоенные годы тропой добродетели, где обычно по воскресеньям гуляли молоденькие девушки, пожилые дамы и прекрасно одетые мужчины. Сейчас тут было подлинное столпотворение — здесь встречались представители света, настоящего, полу- или, если угодно, лжесвета, и те, кто пришел соприкоснуться с ним. Самым шикарным было, или считалось, появиться на авеню дю Буа в полдень, одновременно с боем часов. Были здесь дамы, которые умерли бы от стыда, если бы их встретили на авеню без пяти двенадцать. Были здесь и молодые люди — меланхолики или сластолюбцы. Эти забредали сюда с десяти часов утра, забредали от безделья, а также в надежде на знаменитый полдень, в надежде на встречу с женщинами, теми хорошо одетыми, раздушенными, освеженными утренней прохладой женщинами, которые усилием жалкого галантерейно-студенчески-гимназического воображения должны были после знаменитого первого взгляда стать героинями романа, представляющего сплав всех шедевров «Библиотеки избранных произведений», Бодлера и журнала «Ви паризьен» с самим Фабиано во всей его красе. В этот же час расходились по домам молящиеся после обедни в Сент-Онорэ-д'Эйлау.
Ранним утром прошел сильный дождь, но, благодарение богу, к девяти часам установилась почти хорошая погода, то есть было все так же мерзко и сыро, но хоть не приходилось шлепать по грязи. Одна только земля хранила воспоминание о прошедшем ливне. Правда, лужи подсохли, но под гравием почву размыло, и она стала какой-то картонно-коричневой. Вытянувшись в ряд, шли, взявшись под ручку, визгливые подросточки; крайним приходилось высовываться и забегать вперед, чтобы поговорить друг с другом. На желтых металлических стульях с решетчатыми сидениями восседали старые дамы, кренясь на сторону, как вчерашние кексы. У всех гуляющих был такой вид, словно они явились сюда для чего-то, но для чего именно — они и сами толком не знают. О том же свидетельствовал их торопливый шаг: конечно, в декабре не станешь мешкать на улице, но нет, не декабрь был тому виной… В любое иное время года они все равно шли бы той походкой, какой ходят люди, как бы устремляющиеся куда-то, а на самом деле не имеющие другой цели, кроме прогулки. Это входило в церемониал: каждый старался внушить встречным, что лично он страшно спешит и заглянул сюда только мимоходом, только оттого, что обещал кому-то заглянуть просто по доброте душевной. Никто никогда не пытался сформулировать этот прогулочный закон, равно как и объяснить причину строжайшего запрета пересекать у входа Булонский лес и доходить до кафе «Павильон Дофина», тогда как вполне допускалось пройтись по лесу до первого поворота… Так принято — и все тут, так делалось само собой, и никто не ощущал всей нелепости этих нескольких сакраментальных шагов. Верно и то, что те несколько шагов не пережили 1922 года, а вот в 1923 году именно из-за них вас сочли бы просто дикарем. Тогда стали останавливаться на площадке перед вокзалом. Но только тогда. Естественно, в Париже имелись люди того же сорта, что и те, которые топтались по авеню, но их никогда не было видно: очевидно, эти знали что-то немного лучше, не очень намного, но все-таки лучше, и дали бы скорее изрубить себя на куски, чем пришли бы сюда.