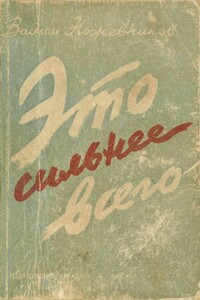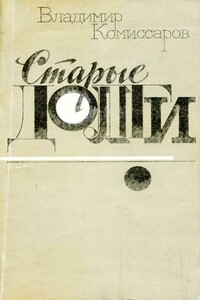В полдень на солнечной стороне | страница 17
И пространство между его передним краем и своим, как бы природа нарядно ни маскировала его: лугом, рощицами, перелеском, — ощущается всегда, как черная голая, открытая арена, где нет прикрытия живому, как на плоском каменном плато, холодном, твердом, леденящем.
В предрассветных слабеющих сумерках, в марлевой кисее тумана оно, это пространство, казалось сейчас мертвым руслом реки, оставшимся после половодья.
Петухов зябко ежился, и ему грезился сиплый повелительно-насмешливый голос отца, когда он вместе с ним ходил на рыбалку вот в такую же предрассветную пору, продрогший и полусонный, а отец, развернув на берегу бредень, хлюпал в воде, звал его окунуться, говорил: «Что? Озяб, цуцик! Не замочив порток, рыбы не наловишь!»
Отец был сильным, уверенным в себе человеком, бригадиром ремонтников-печников в мартеновском цехе, возводящих из огнеупоров своды печей, их пещерные купола, когда печи еще источали огненный жар и мокрые ватники на печниках дымились паром, как и валенки с тлеющими войлочными, толсто подшитыми подошвами. Лицо у отца всегда было смугло и лупилось от ожогов.
Единственный человек, с кем отец держался всегда заискивающе, умильно и застенчиво, — мать. Он говорил сыну:
— Спроси у матери, отпустит на рыбалку или как…
— А сам не можешь?
— Она меня обидеть не захочет, а тебе признается, если я по дому ей нужен.
— Она же на выходной стирку затеяла, велела уходить.
— Вот, — говорил отец, поднимая многозначительно брови. — Лохань тяжелая, да еще с водой. А ей тяжесть носить противопоказано. — И оставался дома.
Когда сын сказал, что его, отца, и так соседи считают жениным подкаблучником, отец жестко взял его за плечо, сильно рванул к себе, потом оттолкнул и произнес сипло:
— Эх ты, опенок! А я-то думал… — Похлопал ладонью по скамье, приказал: — Сядь!
Долго курил, вздыхал молча.
— Выходит, так, Гришка! Тебе она жизнь дала, и это тебе ничего не значит! А мне мать, значит, — мою жизнь, ее жизнь и твою дополнительно. Без нее мне бы ничего не светило, и она нами живет, как и я ею. Вот как до такого понимания дойдешь, через всякие дрязги, мелочи переступишь, пересилишь их, тут вот и наступает долговременная пора сознательности, чего ты достиг в жизни, — то, что в тебе не один ты, а еще есть человек наиглавнейший, который не только с тобой прожил, но и тобой живет и, как себя, тебя понимает. Вот такой фокус и есть — жена. Если в книгах про любовь и напечатано — может, и правильно, — как про временное переживание, но для понимания, что она значит для прохождения всей жизни, мало в книжках читал подходящего.