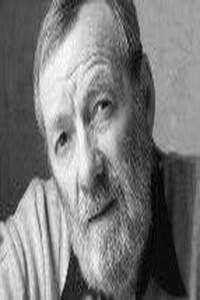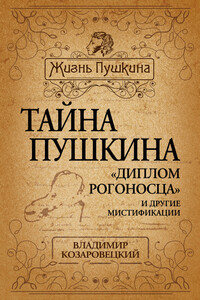Тайна Пушкина | страница 4
В письме к Пушкину после публикации Первой главы романа А. А. Бестужев писал: «Дал ли ты Онегину поэтические формы, кроме стихов?» (Здесь и далее везде, кроме специально оговоренных случаев, выделенный полужирный курсив — мой. — В. К.)
«Твое письмо очень умно, но все-таки ты неправ, — отвечал ему Пушкин, — все-таки ты смотришь на „Онегина“ не с той точки …» Так, может, и мы смотрим на роман — и на Пушкина — «не с той точки» ? Может, мы из-за этого до сих пор не поняли замыслов Пушкина и, воспринимая их воплощение только на интуитивном уровне, не можем добраться до истинной глубины его произведений, до пушкинской Тайны ?
«Нет загадки более трудной, более сложной, чем загадка Пушкина… Очень многое у Пушкина — тайна за семью замками», — сказал поэт Арсений Тарковский. Известный пушкинист Н. К. Гей писал: «Время убедительно показало, что сам феномен пушкинского творчества далеко выходит за пределы „окончательных“ решений. Большие трудности возникают на уровне аналитических подходов, скажем, к „Медному всаднику“, „Борису Годунову“, даже к „Памятнику“, не говоря уже о пушкинской прозе. Казалось бы, все они исследованы „вдоль и поперек“, но вы чувствуете, что неведомое вновь отодвигается и нечто существенное, а может быть и главное, по-прежнему остается незатронутым… Объект исследования настолько труднодоступен, что общий результат здесь гораздо ниже, чем в работах о Толстом, Достоевском, Чехове… Природа пушкинских свершений остается невыявленной, „закрытой“…»
Между тем А. И. Рейтблат в своей книге «Как Пушкин вышел в гении» (М., НЛО, 2001), подводя итог изучению поставленного ее заглавием вопроса, ответил на него так:
«В переломный для русской литературы момент Пушкин использовал для приобретения известности и славы как уходящие в прошлое, во многом архаичные средства (поддержка дружеского круга и литературных обществ, покровительство власти), так и новые, связанные с появлением публики и общественного мнения (рецензии в периодике; вызывающее поведение как форма привлечения внимания; коммерческий успех и т. п.). Все это позволило Пушкину закрепиться на первом месте и стать к началу 1830-х гг. общепризнанным главой русской литературы».