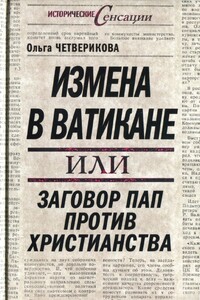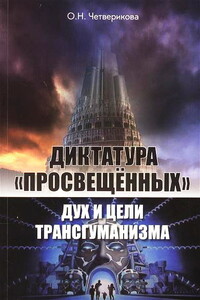Цифровой тоталитаризм. Как это делается в России | страница 41
С другой стороны — это чистый бизнес: «С моей точки зрения, во всех этих технологиях… есть какая-то червоточина. Там есть что-то нехорошее… в них есть эта ложка дёгтя… Например, электронная почта, бесплатная, быстрая… но почему-то там развивается спам — 90–95 % электронной почты это спам… Социальные сети, они также дают возможность общаться… Но в реальности вместо сильных и стоящих связей они дают массу слабых, они отрывают у вас массу времени жизни…то есть в них тоже начинает накапливаться какая-то гниль… Объяснение там очень простое, что это такая новая формула технологическая (вместо марксовой формулы): 'технологии — деньги — дерьмо “. Все эти технологии, в конце концов, привязываются к деньгам, и на следующем шаге они превращаются в дрянь. Ваши данные начинают в социальных сетях продавать, вам начинают втюхивать рекламу, в поисковике та же самая история, в результате реклама гоняется за вами по всему интернету и т. д. С моей точки зрения это такой неизбежный процесс, потому что все эти технологии…, сама модель стартапов, сама модель больших корпораций — там всё выстроено вокруг одного стержня — денег»[91].
Действительно, мы видим, что религиозное и коммерческое начала так тесно переплелись в интересах российской «элиты», что можно говорить о некой сакрализации «цифровой экономики» и формировании целого слоя цифровых религиозных фундаменталистов.
Вот что рассказывает Н. Касперская, гендиректор группы компаний InfoWatch в своём выступлении «Цифровая экономика и риски цифровой колонизации»: «Все эти понятия, которые на слуху: биг-дата, искусственный интеллект, блокчейн — везде мы видим эти названия. Всё это похоже на какой-то квест, в котором мы бегаем за подсказками и ищем, что же там будет следующее. Чем этот квест плох. Ну, во-первых, этот квест не наш. Кто-то другой придумывает эти подсказки, раскладывает, а мы, как группа школьников, бегаем и эти подсказки ищем. Во-вторых, есть евангелисты — термин, которыё пришёл из проповедования религиозных убеждений — которые втюхивают нам эти новинки, как правило, не очень хорошо в них разбираясь. При этом вокруг возникает шумиха в прессе, которая мешает пониманию и без того трудному, что же это за новые технологии, поскольку создаёт большой информационный пузырь. И создаётся убеждение, что надо не опоздать, иначе мы останемся на обочине истории. В результате происходит попытка внедрения этих самых разрекламированных новых технологий, а о рисках никто не говорит»