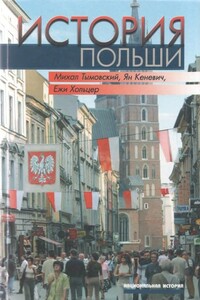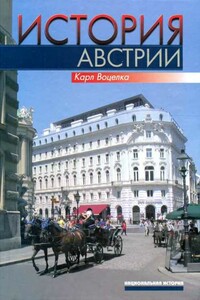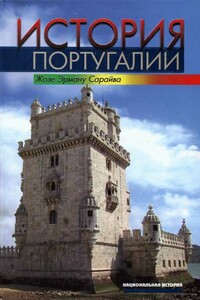Краткая история аргентинцев | страница 102
Австрийский социолог Отто Баур говорил, что страны — это застывшие истории. Аргентинские историки, как правило, не занимаются историей лишь для того, чтобы узнать, что происходило в прошлом, а хотят лучше понять современную Аргентину, найти ответы не только на те вопросы, которые мы, индивидуумы, задаем себе на определенных этапах жизни, но и на вопросы, поставленные обществом: откуда мы появились, в каком направлении движемся, кто мы, чему служим, почему с нами происходит то, что происходит, почему мы отличаемся от других, в чем заключается наша идентичность, что мы можем сделать в будущем, какими талантами мы обладаем.
История, хотя и не отвечает на все вопросы (а если и отвечает, то не всегда правильно), помогает понять настоящее, и в этом ее ценность. В конце концов, у историка нет магического шара, который позволил бы ему предсказать будущее, но он рассматривает общественные феномены в долгосрочной перспективе и поэтому может вовремя предупредить общество.
С этой точки зрения память о демократии, существовавшей в стране с момента принятия закона Саенса Пеньи и до 1930 г., а также о ее внезапной смерти, наводит на размышления о хрупкости аргентинской политической системы и о нетерпимости, которая много раз хоронила надежды на ее улучшение.
IX. Революция 1930 года
Революция 1930 г. стала важным событием в новейшей истории Аргентины. Она ознаменовала конец одной эпохи и начало другой. Впервые в конституционной истории Аргентины в результате военного (или, по крайней мере, военно-гражданского) переворота было свергнуто законное правительство. С моей точки зрения, это положило конец многообещающим перспективам развития страны и привело к катастрофическим последствиям. Я осознаю, что меня можно обвинить в политических пристрастиях, однако историк не обязан отрекаться от тех ценностей, на которых основаны его взгляды на страну и на мир в целом.
Плебисцит
Моя оценка революции 6 сентября 1930 г. как катастрофы для институтов страны основывается на моральных ценностях. Но в любом случае, хотя эта революция и была катастрофой, она имела свои причины, которые следует проанализировать. Для этого необходимо обратиться к событиям 1928 г., к выборам, вошедшим в историю под названием «плебисцита», на которых Иполито Иригойен был избран президентом во второй раз.
Во время этих выборов четко обозначились два политических течения: одно из них полностью поддерживало Иригойена, другое яростно отрицало его наследие. Иригойен оставался бесспорным лидером Гражданского радикального союза, несмотря на то что за несколько лет до этого движение радикалов оказалось расколотым. В одну из фракций — фракцию, так называемых «антиперсоналистов» — входили те, кто критиковал якобы вождистские замашки Иригойена. В наши дни мы бы назвали эту фракцию правоцентристской.