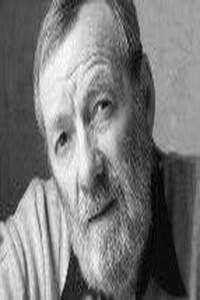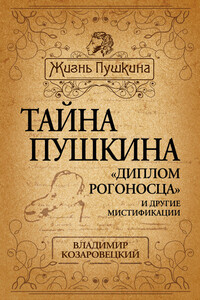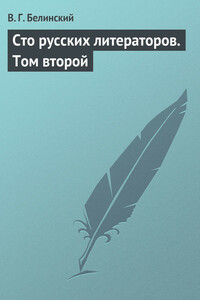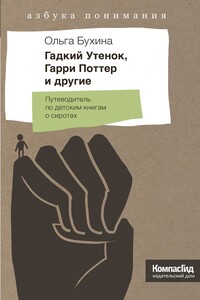Тайна Пушкина. «Диплом рогоносца» и другие мистификации | страница 93
VII
Остается последний вопрос, который напрашивается в связи с предложенной версией подтекста поэмы: не было ли у Пушкина, узнавшего этот адюльтерный сюжет, возможности литературно оформить его без богохульства, не привлекая в качестве аллегории Господа и Архангела Гавриила? И тут, когда мы понимаем, что действующими лицами были Мария , император, его первый министр и его флигель-адъютант , мы невольно приходим к выводу, что этот вынужденно мистификационный сюжет можно было воплотить только так, как это сделал Пушкин, – или не трогать его совсем. Вот на этом, альтернативном посыле мы и остановимся.2. «Поймали птичку голосисту…»
I
Весной 1823 года на юге, в ссылке, Пушкиным написано восьмистишие:
В чужбине свято наблюдаю
Родной обычай старины:
На волю птичку выпускаю
При светлом празднике весны.
Я стал доступен утешенью;
За что на бога мне роптать,
Когда хоть одному творенью
Я мог свободу даровать.
Вольнолюбивая мысль Пушкина, его страстное желание свободы в стихотворении прочитывается отчетливо – и в связи с этим восьмистишием воспринимается как вполне законченное стихотворение считающаяся отрывком пушкинская строфа «придворного» периода:
Забыв и рощу и свободу,
Невольный чижик надо мной
Зерно клюет и брызжет воду
И песнью тешится живой.
«Не выстраивается ли единый ряд, своего рода троептичие? – задался вопросом Лацис в конце своей статьи «Погоня за перехваченной птичкой», фактически уже выстроив его. – Кроме кишиневской и петербургской, не должна ли была быть еще одна птичка, Михайловская?»
II
Воспроизведем ход мысли пушкиниста в последовательности происходившего с этой «птичкой».
В начале 1824 года в журнале «Соревнователь просвещения и благотворения», примыкавшем к декабристам, была опубликована басня Крылова «Кошка и Соловей»:
Лишь спой мне что-нибудь: тебе я волю дам
И отпущу гулять по рощам и лесам.
............................................................................
Ну, что же? – продолжает Кошка. —
Пропой дружок, хотя немножко.»
Но наш певец не пел, а только что пищал.
......................................................................
Сказать ли на ушко яснее мысль мою?
Худые песни соловью
В когтях у кошки.
Пушкин, будучи в ссылке в Михайловском, узнает в басне, изложение или текст которой дошли до него (вероятно, от Дельвига, приезжавшего в Михайловское в 1825 году), свою ситуацию 1820 года, когда ему было обещано прощение, а потом в нем отказано. Между тем назидающие и поучающие наставники поэта Вяземский, Жуковский и Плетнев, словно бы сговорившись с крыловской кошкой, уговаривают Пушкина сидеть смирно, «петь» и не «высовываться». Взбешенный поэт резко отвечает им: «О боже, избави меня от моих друзей!» (сестре, середина августа 1825 года, с расчетом, что письмо прочтет и Вяземский, отдыхающий на том же курорте); «Дружба входит в заговор с тиранством, сама берется оправдать его, отвратить негодование… лишают меня права жаловаться… а там не велят и беситься. Как не так!» (Вяземскому, сентябрь 1825-го.) Тон писем сознательно обиден, в надежде заставить друзей что-нибудь предпринять для его высвобождения из ссылки. Отталкиваясь от пересказанного ему содержания крыловской басни именно в это время он и пишет издевательскую эпиграмму: