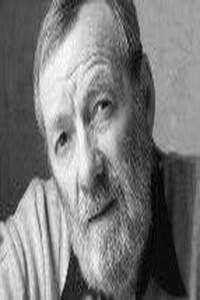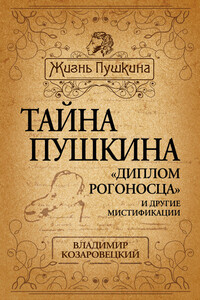Тайна Пушкина. «Диплом рогоносца» и другие мистификации | страница 106
Несмотря на столь убедительный – я бы сказал, сокрушительный – отпор этой версии взаимоотношений Пушкина и Александра Раевского, она оказалась на редкость живучей. Всего через 4 года после опубликования этого ответа Гершензона Лернеру П.К.Губер в работе «Донжуанский список Пушкина» тем не менее снова рассматривал Раевского как пушкинского «демона», подверстывая одноименное пушкинское стихотворение к стихотворению «КОВАРНОСТЬ» и рассматривая каждое слово Раевского в их переписке как фальшь, а каждое слово Пушкина – как снисхождение к предателю. Т.Г.Цявловская впоследствии использовала и «узаконила» эту «логику», включив такое понимание их отношений уже как установленный факт в свои работы и во всевозможные комментарии – в частности, и в статью «Храни меня, мой талисман». Л.М.Аринштейну, «развивавшему» мысль Лернера, Губера и Цявловской, только и оставалось в наши дни сделать вывод, что пресловутый «диплом рогоносца» пушкинской преддуэльной истории состряпал и разослал друзьям Пушкина, конечно же, тоже «негодяй» Александр Раевский.
V
И Губер, и Цявловская, вслед за Лернером, использовали в качестве главного аргумента письмо Александра Раевского Пушкину от 21 августа 1824 года, написанное через три недели после отъезда поэта из Одессы в новую ссылку. Оно заслуживает подробного рассмотрения, чтобы перестали, наконец, гальванизировать этот миф и захоронили его. Вокруг него нагорожена масса чепухи – и все из-за того, что пушкинисты не обратили внимания на два больших тире, которые в конце прошлого века разглядел в письме Александр Лацис при изучении подлинника. Такими тире было принято выделять фрагменты текста, как мы выделяем их «воздухом»; этими тире и выделен абзац « Мой дорогой друг… » – письмо в письме, письмо Елизаветы Воронцовой в письме Александра Раевского, написанное тоже его рукой, но под ее диктовку. Кроме того, анализируя текст, Лацис понял, что в переводе с французского следовало бы везде, кроме этого последнего абзаца, «вы» заменить на «ты»: Раевский с Пушкиным был на «ты», Воронцова – на «вы». Такая корректировка меняет акценты в тексте, объясняет наличие повторов и тон последнего абзаца и рассыпает в прах единственный аргумент в поддержку утверждений о лицемерии Раевского. Внесем соответствующие исправления в общепринятый перевод французского текста письма Раевского с одним несущественным сокращением и небольшими стилистическими поправками Лациса, выделив письмо Воронцовой курсивом: