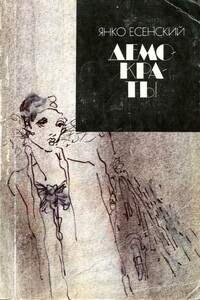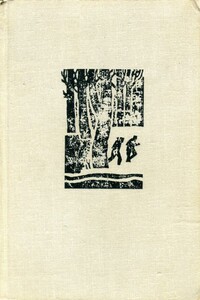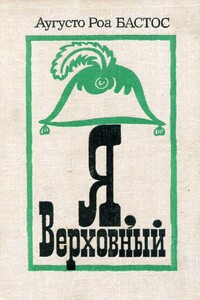Сын человеческий | страница 52
Ошеломленный, я не отрывал взгляда от окна. Станция убегала вдаль. Все мчалось вдаль, стремительно и беспорядочно. Темное пятно на платформе линяло и уменьшалось. Скоро оно стало не больше выцветшего на солнце серого муравейника.
Мимо окон неслись телеграфные столбы, а чуть поодаль, менее прытко, бежали дома, ранчо, деревья, пасущийся на окраине деревни скот, птичий двор, кладбище. Все они безудержно мчались обратно, к станции, но никак не могли настигнуть друг друга. Потом они круто свернули в сторону, словно земля вертелась вокруг поезда. Позади лесов Тебикуари деревня зарылась в поля.
Я послюнил пальцы и, нагнувшись, обтер башмаки. Когда я распрямился, то увидел совсем рядом, на повороте, небольшой холм. На вершине холма из-под навеса из болотницы на нас глядел прокаженный Христос, распятый на черном кресте. Горячий ветер шевелил на его голове волосы Марии Росы; казалось, он ожил среди летающих над родником бабочек, которые трепетали на солнце желтыми крылышками.
Прогремел глухой раскатистый гром. Колеса простучали по мосту над речкой. Дамиана, не спуская глаз с Христа, перекрестилась. Остальные женщины тоже осенили себя крестным знамением. Раскат грома побежал к последнему вагону и там замер. Пассажиры вернулись к прерванной беседе.
Последнее, что я увидел, был крест над могилой Макарио Франсии, вырытой на склоне холма среди колючих ветвей, изогнутых оленьими рогами, — вот и все, что осталось от вольноотпущенного раба, который освободил деревянного Христа из лесу, а теперь покоился в детском гробике не на кладбище, а у подножья новоявленной Голгофы — Итапе.
Сквозь стук колес мне снова слышатся слова Макарио: «Человек, дети мои, рождается дважды: первый раз, когда появляется на свет, второй — когда умирает».
Холм исчез. «Мчится холм в лихом галопе, унося с собой Христа», — промелькнуло у меня в голове. Его уже не разглядеть за зеленой громадой, которая вращается, как гигантский волчок, приводимый в движение длинными нитками железнодорожных путей.
И тут только я обратил внимание на человека, который сидел на противоположной скамье и дремал. Сначала мне никак не удавалось разглядеть его. Мешали потоки пыльных лучей, хлеставших в окна, но по другую сторону солнечного снопа силуэт вырисовывался довольно четко. Это был иностранец. Очень худой. Его нельзя было принять ни за поляка, ни за немца, из тех, что приехали строить завод и снова уехали на войну. Но что он иностранец — сразу бросалось в глаза. Длинные ноги мешали ему удобно расположиться, он сидел как-то съежившись, на твердой деревянной лавке. Его колени почти касались нашей скамьи, и Дамиана не могла приблизиться к окну. Из-под фетровой шляпы виднелись короткие пряди очень светлых волос, цвета засохших листьев на маисовых початках. Брюки и сапоги были сильно поношены. На острых коленях лежал вывернутый наизнанку пиджак. Из мешка выглядывал потрепанный корешок синей книжечки с непонятными золотыми буквами. Рубашка прилипла к телу, обрисовывая торчащие ребра. Когда, стараясь усесться поудобнее, он начинал ерзать, в щелках между припухшими от усталости веками сверкали голубые глаза. Солнечный свет мешал ему. Он опустил законопаченные пылью жалюзи и снова забился в свой угол. На него легла теневая решетка, и тут я заметил, что он тоже смотрит на Христа. Мне даже помнится, вроде бы он перекрестился. А может, я ошибаюсь — я плохо его видел. Может, он и не шелохнулся. Сквозь решетку, сплетенную из пыльных лучей света и полосок тени, лихорадочно блестели голубые глаза.