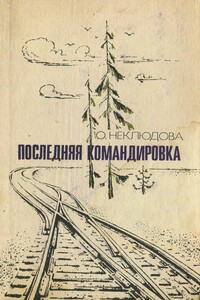Слезы и молитвы дураков | страница 34
— Что вы делаете? Мы же люди! — воскликнул Ешуа и заплакал.
— Люди, — откликнулось эхо.
Молодой лисой заметался огонь.
— Юзеф! — крикнул кто-то с дороги.
— Иду, иду! — Юзеф оглядел костер и медленно поплелся к фуре.
Слезы заливали крупное бородатое лицо корчмаря.
— Плачь, Ешуа, плачь!.. Ты никогда в жизни не плакал, — шептал он. — Пусть твои слезы рекой текут… по бороде… по животу… по ногам… туда… на огонь… Только слезами его не погасишь… Только слезами… Господи, дай мне столько слез, сколько водки я разлил по кружкам… Господи!..
Внизу весело потрескивали сучья. Огонь уже подбирался к башмакам… сейчас запахнет горелым мясом…
— Люди! — закричал Ешуа.
— Люди, — откликнулось эхо.
— Господи, господи, за что мне такие муки?
— … уки, — повторило эхо.
А наверху, в ветках, безумствовали птицы.
— Птицы, птицы, — стонал Ешуа. — Неужели ничего не видите? Неужели и вам все равно…
— … авно, — издевалось над ним эхо.
— Гавно… Все гавно… и птицы, и люди, и ты, господи… прости и помилуй меня… — Ешуа попытался руками развязать узел, но не мог, крепко завязан, намертво. Так на Немане связывают в пучки плоты.
И вдруг он увидел свою лошадь, свою гнедую…
— Жена моя, — выдохнул Ешуа и подавился слезами.
Гнедая, почувствовав его дыхание, подошла к сосне и застыла перед огнем.
— Жена моя!.. — Ешуа высвободил руку, протянул… Лошадь поверила, что рука не пустая, что на ней корка хлеба, и шагнула к сосне.
Лошадь обнюхала его руку, ткнулась мордой в бороду, и Ешуа схватил ее за шею, привлек к себе, поцеловал, как бы прощаясь и благодаря за преданность. Но огонь, разгоравшийся все сильней и жарче, отпугнул гнедую, она громко, на весь лес, заржала, и эхо передразнило ее, как жеребенок. Печальная и осиротевшая лошадь долго еще кружила вокруг сосны, разгоняя хвостом лесных мух и летевшие искры.
Жариться бы Ешуа до вечера на разбойничьем огне, если бы на него не набрели лесорубы Маркуса Фрадкина, почуявшие запах дыма. Был среди них и Ицик Магид. Они отвязали корчмаря, затоптали огонь, уложили Ешуа на мягкий мох, сняли с него обгоревшие башмаки, осмотрели его ноги, грязные и зловонные, дали из фляги напиться и, когда корчмарь очнулся, Ицик Магид спросил у него по-еврейски:
— Вам дурно, реб Ешуа?
— Мне хорошо… хорошо, — прохрипел корчмарь, глядя на верхушку сосны, к которой совсем недавно был привязан, и ему вдруг стало до боли, до крика жалко себя, распластанного на мху, беспомощного и босого, жалко этого высокого терпеливого дерева и этого безоблачного неба, которое равнодушно висит над всеми — над корчмарями, разбойниками, лесорубами и ни в чем не повинными лошадьми…