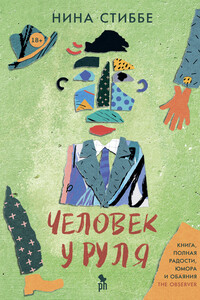Слезы и молитвы дураков | страница 29
Еда еще и тем хороша, думал Рахмиэл, что почти не надо говорить. Черпаешь ложкой, хлебаешь, жуешь и — молчишь. Молчание, конечно, не золото, но для еврея— алтын: молчальника не сразу продашь и купишь. Особенно, когда кругом чужие, когда то, что говоришь ты, уряднику переводят, а то, что говорит он, ты должен выполнять, даже если не бельмеса не понимаешь. Не потому ли он, Рахмиэл, и подался в сторожа: тишь, безмолвие, ходишь по местечку, поглядываешь на ставни, и сам ты — как ставня с железными ободами.
— Пусть будет картошка, — согласился человек в ермолке и понес ведро в избу.
— Как тебя зовут? — спросил Рахмиэл, когда картошка задымилась на столе рядом с сермягой.
— А как ты хочешь, чтобы меня звали?
Рахмиэл от неожиданности выронил картофелину. Она шлепнулась на пол и рассыпалась.
— Можешь называть меня каким угодно именем.
— Как же так? — удивился Рахмиэл. — У каждого свое имя. Меня, скажем, зовут Рахмиэл. А тебя?
— Выбирай любое. Разве тебе имя важно? Тебе важно что-то при этом имени вспомнить.
— А что вспомнить?
— А что вспоминают на закате дней? Грехи!
Пришелец сидел напротив Рахмиэла, неотрывно смотрел ему в глаза, и в глазах сторожа что-то плавилось и переливалось, пока крупная старческая слеза не упала на дряблую щеку и не застряла в щетине.
— Вот и называй меня именем своего греха, — гость разломил картофелину, обмакнул ее в серую слипшуюся соль и снова уставился на хозяина. — Грехи безымянными не бывают. — И отправил половинку в рот.
От него исходила какая-то засасывающая омутная сила, и Рахмиэл покорно следовал за ним, как нитка за иголкой.
— Арон, — выдохнул он, и новая струя пота залила его подбородок.
— Арон так Арон, — равнодушно сказал человек в ермолке. — Что же ты мне, Арону, расскажешь?
— А что рассказывать?
— Все. Торопиться некуда. День долог.
— Послушай, — вдруг встрепенулся Рахмиэл, — ты меня не знаешь, и я тебя не знаю. Поешь и ступай с миром. Мне еще до вечера надо сермягу залатать. Казимерас уж дважды приходил.
— Я уйду, но грех-то останется, — как ни в чем не бывало сказал человек в ермолке.
— А у меня нет грехов! Нет! — воскликнул Рахмиэл. — За грехами ступай к Фрадкину! В корчму к Ешуа!
— Придет и их черед, — спокойно ответил гость. — Грехов, говоришь, нет, а гонишь. Что ж, потрапезничаем и разойдемся.
Они ели молча, поглядывая друг на друга, и чем больше реб Рахмиэл смотрел на пришельца, тем изнурительней делалось молчание.
Поди знай, кто нынче переступает твой порог, думал. Рахмиэл, давясь обыкновенной, тысячи раз еденой картошкой. Безродный бродяга, каких полно во всех городах и весях, великовозрастный лентяй, нахватавшийся где-нибудь в ешиботе ученых премудростей и скорее из-за лени, чем из-за учености слегка повредившийся в рассудке? Или родной сын, угнанный много-много лет назад куда-нибудь на край света? А вдруг он сменил нелепый картуз на эту засаленную ермолку, приколотую булавкой к волосам, а пиджак без пуговиц и подкладки на этот дорожный балахон, от которого пахнет навозной жижей. Почему он сразу не напился из реки, а пришел сюда, в эту развалюху? Есть в местечке избы и покраше и побогаче, там в ведрах не цвелая вода, а мед и молоко. Чем же он прельстился? Нет, Рахмиэл не смеет его выгнать. Он должен его приютить, принять как каждого сирого и бездомного, и не гадать, чей он посланник…