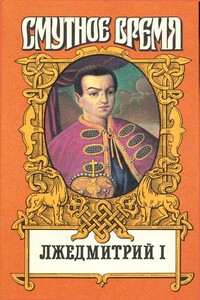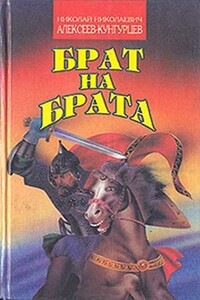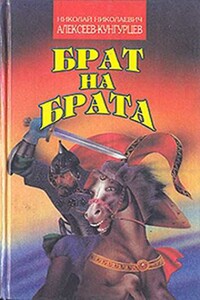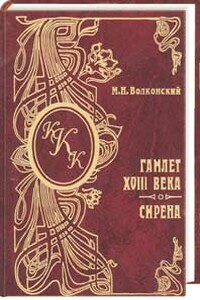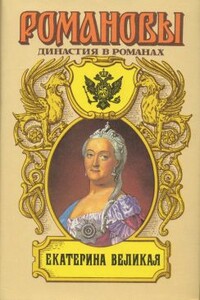Татарский отпрыск | страница 14
— Э-эх! — шепчут его старые губы, — сколько здесь добрых молодцев, а много ль воротятся? И на что это люди войны выдумали? Все оттого, что любви в мире мало!
Обнажились буйные головушки. Начался молебен. Смутно у всех на душе, и жарка молитва бойцов.
— Кто знает? Может, в последний раз на земле родимой молитву творю, пройдет месяц, два, и я уже… Боже, милостив, буди мне грешному! — шепчут уста, и еще ниже склоняются головы, еще чаще вздымаются руки.
Тянет молебен седой иерей, а все-таки скоро конец наступает молитве.
Пора в путь! В далекий путь — неслыханное дело! — в сердце татарщины, в ханство Крымское! Зашумела рать, заговорила и двинулась… Идут дети боярские со своими челядинцами. Неважно вооружены холопы, но все же у каждого найдется или лук тугой со стрелами, или топор, годный не для одной татарской башки, или вилы трезубчатые, рогатина, или просто дубина здоровая, еще недавно стоявшая в ближнем лесу деревцем нестарым, полузанесенным снегом, а теперь в руках дюжего холопа боярского она службу сослужит немалую: уложит спать непробудным сном не одного татарина бритоголового. Господа их на конях все и вооружены получше. Все в кольчугах или в панцирях тонкой заморской работы, на головах шеломы. У каждого пищаль припасена и мешок с «зельем»[2] да пулями у седла висит. Сабли на боку о стремя побрякивают, в ножнах кожаных, хитро изукрашенных у иных камнями самоцветными; не забыт и лук дедовский, и бердыш про всякий случай. Дальше стяг[3] стрелецкий развевается. Стройно идут стрельцы, пищали завесные[4] с берендейками[5] у всех на плечи положены, в другой руке копье, а на боку сабля привешена.
Следом за ратью, рядом с обозами, бежит толпа баб и детей, мальчиков больше. Плач слышен в ней, причитания. А войско шло спешно. Вот и стену городскую миновали. Провожатых все меньше и меньше становится. Еще двое-трое печально плетутся за войском, но и те отстают вскоре: жаль отца или мужа, а что делать! не побежишь же до самого Крыма!
А войско движется безостановочно — все дальше и дальше от дорогих сердцу мест, от горячо любимых отцов, матерей, жен и чад…
Князь Андрей Михайлович, ехавший на белом, горячем и сильном коне, сидел, глубоко задумавшись и выронив из рук поводья.
— Что, брат, призадумался? Аль впервой на битву отправляешься? — спросил, подъехав к нему, запорожец, сидевший на небольшом жилистом степном скакуне.
— Не впервой-то, не впервой, а только никогда мне так грустно не было, как в этот поход… Давит что-то сердце, словно камень на груди лежит! — ответил князь.