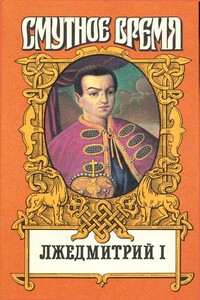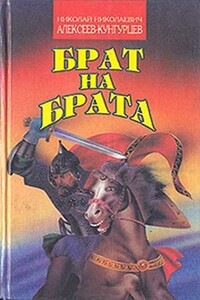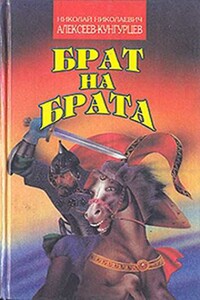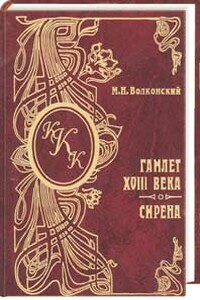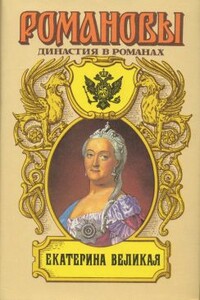Татарский отпрыск | страница 13
Князь, конечно, тоже не отставал от других, и впечатление гаданья понемногу забылось.
Близок был рассвет, когда гости, щедро одарив гостеприимную хозяйку, напутствуемые ее пожеланиями всяких благ, покинули, наконец, жилище Ведуньи, чтобы хоть, немного, поспать и с крепким телом и духом отправиться на недалекий уже поход, на ратное дело.
IV. В походе
Светало. Первые лучи солнца скользнули по золоченым верхушкам сорока-сороков московских церквей, глянули в слюдяные окна боярских теремов, где, раскинувшись, далеко отбросив атласное одеяло, сладким сном почивали белотелые боярские дочери, и заиграли по затянутым утренником лужам. На улицах Москвы было тихо и безлюдно. Разве кое-где промелькнет хитрая, востроносая рожа ночного воришки, неслышно пробирающегося подальше от людных улиц, где такое раздолье для него ночью и где днем, наоборот, ему со всех сторон грозят опасности; пройдет, мурлыча песню, запоздалый подвыпивший молодец, досидевший до белого света в каком-нибудь тайном кружале у веселой вдовушки, и снова безлюдно и тихо.
Однако не для того, видно, взошло солнышко, чтобы обливать своими лучами крепко спящий, безлюдный город, будит оно кого следует, и вот, чу! где-то прозвучала труба… Резкие звуки ее проносятся по тихой Москве и будят спящих чутким сном тех, кому надлежит выступать на ратное дело. Молодцу недолго сбираться! Крест перед иконой, прости, родная матушка, прости, батюшка родимый, прости-прощай, отчий кров, — и уже за воротами паренек спешит к месту сбора, на дом не оглядывается, потому, знает, что смотрят вслед ему очи родные и слезами заволакиваются, и боится он — оглянется, пожалуй, и сам всплакнет, потому самому, что и у него на сердце не птицы поют, а слезы лить негоже молодцу, воину храброму: чай, не девица он красная!
А труба все гудит, на разные лады посвистывает… Уж и перестать бы ей пора, — молодцы почти все в сборе, — а она все разливается, словно трубачу песню хочется сыграть родному краю на прощанье. Но вот еще два-три хриплых звука вырвались из медного горла трубы, и вдруг оборвалось ее пение, замерло на самой высокой пронзительной ноте, которую она будто хотела добудить последних, крепко заспавшихся, ратников. А из собравшихся, верно, никто и не расслышал этого последнего трубного вздоха среди лязга оружия, говора толпы и шуток неисправимых весельчаков, готовых шутить даже на краю отверстой могилы.
Однако пора и в поход!.. Чего ж медлить? Помолиться, да и в путь. Идет священник седой, в полном облачении, грустным взглядом обводит он рать.