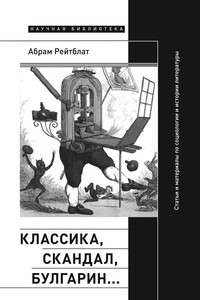«На пиру Мнемозины» | страница 77
Современное научное сознание в некоторых отношениях «согласно» с античной мыслью, но в повседневном бытии и душевном опыте между античностью и нашим временем — пропасть.
Наше существование разрознено, атомизировано и обессмысленно, — констатирует Бродский[214]. Античная философия, исходящая из построений Платона, не только отличается высокой системностью, но и приписывает таковую жизни, миру. Это черта платонизма, привлекающая и отталкивающая поэта одновременно. «…Он не столько мыслитель, сколько „размыслитель“, он не только по темпераменту, но и по выбору не позволяет себе свести свои взгляды в некую систему, потому что система имеет свойство навязывать себя, окостеневать. То, что у него есть, — это система взглядов, но не философская система. Суть ее сводится к осознанию чрезвычайного разнообразия человеческих ситуаций и к идее равенства всех этих ситуаций, и равенства, если угодно, всех взглядов на мир, то есть, грубо говоря: ты прав, и я прав, и мы все правы, и нам нечего больше делить <…>. Это демократический взгляд, доведенный до абсолюта», — говорит Иосиф Бродский об Исайе Берлине[215], английском мыслителе, уроженце России, выделяя очень симпатичное поэту свойство ума. Об отношении к закрытым, самодостаточным системам свидетельствует и эссе «Right from Byzantium»: «Изъян любой системы, даже совершенной, — в том, что это — система, — т. е. что она по определению исключает некоторые вещи, рассматривает их как чужеродные и, насколько это возможно, низводит в небытие» (р. 42; ср.: [IV (1); 147]). С другой стороны, константа поэтического мира Бродского — образ самопорождающегося и всеохватывающего Текста. Такой текст, безусловно, закрытая система — ведь он описывает мир во всех его состояниях. Вероятно, этот текст недоступен человеку (как апокалиптическая Книга судеб) или может толковаться им неверно. Его язык нам неизвестен.
Впрочем, если и оставаться в рамках чисто литературоведческой интерпретации, нельзя не заметить, что Бродский вписывает свои стихотворения в контекст достаточно жесткой системы, о чем свидетельствуют ограниченный лексикон слов-констант[216], автоцитация, часто — ориентация на традицию с устойчивым каноном (античную и классическую поэзию прежде всего). «Сакрализованный» статус языка, направленность авторской интенции не на сообщение, а на поэтический код (точнее, и на сообщение, и на код одновременно) также невозможны вне «системоцентричной» эстетики