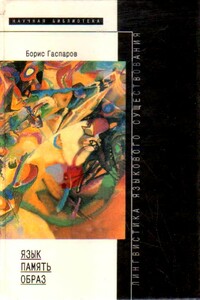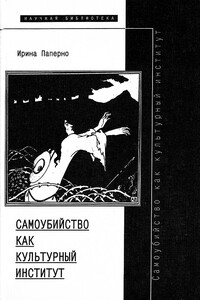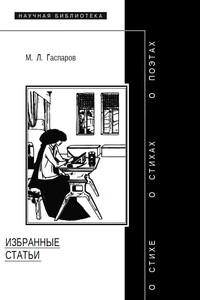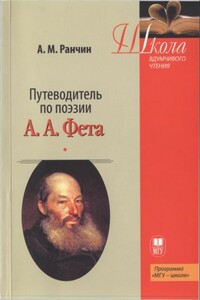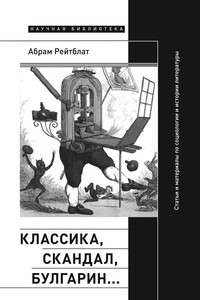«На пиру Мнемозины» | страница 76
(«Посвящается стулу», 1987 [III; 145–147])
Неизменяемость, вечность вещи — в ее сделанности, искусственности: вещи сконструированы по стандарту и потому полностью взаимозаменяемы, лишены лица (лишь в причастности мысли к человеку вещь может в какой-то мере одушевляться; таков, возможно, смысл фразы «…освещенная вещь обрастает чертами лица» — «Bagatelle», 1987 [III; 158]). Вещи как бы продолжают человека в пространстве, но и отчуждены от него, пугая своим подобием живому телу: «Тело, застыв, продлевает стул. / Выглядит, как кентавр» («Поддень в комнате» [II; 447])[209]. Именно сделанные вещи ощущаются современным сознанием, сознанием поэта XX века, знаками бессмертных и неподвижных идей-эйдосов: замысел и его реализация не замутнены колеблющейся и текучей материей, как в природе.
Для Бродского, обостренно чувствующего ценность каждой индивидуальности[210], тиражируемая, схематизированная вещь — страшна. Поэта отталкивает в ней не только застывшая, окостеневшая «схема», но и упругая, непрозрачная, чужеродная материя, сведенная к своим элементарным свойствам — плотности, твердости, объему; к атомам, заполняющим пустоту. И человек не может оставить след, заявить о своем присутствии в вещественном мире:
(«Келломяки», 1982 [III; 63])
Вещи легко встраиваются в словесный рад, в отличие от человека, и этот ряд развивается по своим автономным законам:
(«Полдень в комнате», II; 452)[211]
Самодовлеющая система видится поэту правлением сверх-абстрактного, но и «сверхабсолютного» тоталитаризма. Антиутопии XX века («Мы» Замятина и другие произведения) нарисовали математизированное Государство, а отечественная власть реализовала многие страшные предположения. Среди них — замену человека номером.
Поэтическое воссоздание Бродским (или «реставрация») античных «геометрем»-философем, кроме многого прочего, связано с вниманием автора к проблемам и вопросам, лежащим на границах современной математики, физики и философии, касающимся структуры мироздания. Платоновское учение об идеях по-своему не столь далеко отстоит от представлений физики о строении вещества, заметил В. Гейзенберг