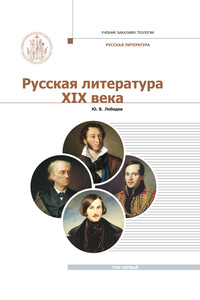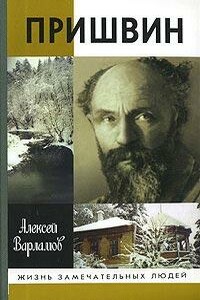«На пиру Мнемозины» | страница 100
Не сходно у Бродского и экзистенциалистов понимание Времени. Для Бродского Время обладает позитивными характеристиками, в противоположность «статическому» Пространству, освобождает из-под власти неподвижности; однако Время и отчуждает «Я» от самого себя. Семантика времени у Бродского заставляет вспомнить об определении времени Хайдеггером в докладе «Время и бытие»: «Время никак не вещь, соответственно оно не нечто сущее, но остается в своем протекании постоянным, само не будучи ничем временным наподобие существующего во времени». Время Хайдеггер называет вещью, «о которой идет дело, наверное, все дело мысли» (перевод В. В. Бибихина)[283]. Мотив времени — в своей чистой сущности неподвижного (вечности — «Осенний крик ястреба», 1975), стоящего над вещественным миром («мысли о вещи» — «Колыбельная Трескового мыса», 1975 [II; 361]), перекликается с хайдеггеровской трактовкой времени.
Этот мотив, может быть, наиболее отчетливо выражен в строках эссе поэта «Homage to Marcus Aurelius» («Клятва верности Марку Аврелию»): «Впервые я увидел этого бронзового всадника (статую Марка Аврелия. — А.Р.) <…> лет двадцать назад — можно сказать, в предыдущем воплощении»[284]. Утраты, которые несет время, — один из лейтмотивов поэтической философии Бродского, он афористически запечатлен в этом же эссе: «Общего у прошлого и будущего — наше воображение, посредством которого мы их созидаем. А воображение коренится в нашем эсхатологическом страхе: страхе перед тем, что мы существуем без предшествующего и последующего»[285]. Однако «повторение» события, возможность преодоления потока времени Бродский в отличие от Кьеркегора исключает для индивидуума; «повторяться» могут исторические события, но такие повторения — свидетельство обезличивающего начала Истории, которая вообще враждебна «Я»: «основным инструментом» истории является — а не уточнить ли нам Маркса? — именно клише («Нобелевская лекция», 1987 [1; 8–9]).
Парадоксальным образом повторяемость осознается поэтом как отличительная черта истории, в которой причины и следствия трудноразличимы («отношения между следствием и причиной, <…>, как правило, <…> тавтологичны» — эссе «Путешествие в Стамбул» [IV (1); 137]). История упорядоченна и по-своему целенаправленна, хотя цели ее неясны. Она ограничивает проявления вероятностного принципа: «…у судьбы, увы, / вариантов меньше, чем жертв» («Примечания папоротника», 1988 [III; 171]); «Причин на свете нет, / есть только следствия. И люди жертвы следствий» («Бюст Тиберия», 1985 [III; 108]). Мотив опережения причины следствием, встречающийся в «Бюсте Тиберия», означает не обратимость Времени, но отсутствие перемен в Истории, которая предстает дурной вариацией ряда ситуаций, ключевая из которых — лишение человека свободы. (В дополнение замечу, что в поэзии Бродского выражен и иной мотив — несходства причины и следствия, интеллектуальные фантазии «Я» о метаморфозе всего существующего и о преодолении времени, впрочем, скорее физического, чем исторического, — «Из Парменида», 1987.)