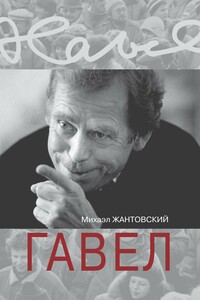Иван Шмелев. Жизнь и творчество. Жизнеописание | страница 35
Шмелев не вступал в метафизические споры Серебряного века. Они ему либо неинтересны, либо он к ним не готов. Но ясно, что Шмелев, создавший в «Росстанях» образ покойной, разумной жизни, видел и другое — как скорбен мир, какое бремя страстей и суеты несет человек, и он искал ему пока еще неясных высших смыслов существования. Он бы мог, вслед за Пушкиным, сказать: счастья нет, есть покой и воля. Собственно, в «Росстанях» и сказал. Но в реальности покоя не было. Ключевая — тихое селение, но Шмелев пишет рассказ «Волчий перекат» (1913) и говорит: нет тихих селений, то «маяшник» утонул, то молодую выдают замуж за щедрые посулы, то сожительствуют невенчанные, то душа тоскует о несбывшемся… Нет тихих селений. Началась война, и тихая идиллия Шмелева, пугливая тишина его мира осталась только в памяти.
Летом 1914 года Шмелевы снимали дачу в селе Оболенском Калужской губернии. В августе 1914-го уже была проведена восточно-прусская операция русских войск, в результате чего Вторая русская армия потерпела поражение; была отброшена за Неман и Первая русская армия; в августе же началась Галицийская битва, и русские потеряли 230 тысяч человек… По деревням шла мобилизация. Издательница петербургского журнала «Северные записки» С. И. Чацкина предложила Шмелеву написать о настроениях крестьян — так появились его очерки «Суровые дни». Они печатались в «Северных записках» в 1914 и 1915 годах. Шмелев рассказывал в них о жизни крестьян калужской деревни Большие Кресты. Писал о том, что видел и слышал. Его герои — сильные, здоровые люди. Деревня отдавала фронту мужиков, она отдавала армии коней, и деревенский народ принимал это бремя на себя без злобы в сердце, без трагизма. Один из героев очерков отказывается от денежной компенсации за коня — он просто жертвовал его для фронта. Шмелев видел, как война изменяла людей, заставляла их жалеть и прощать. Он рассказал историю битой мужем бабки Настасьи, битой ее сыном невестки Марьи; сын Настасьи в мирной жизни был грубым и своевольным, даже корову пропил; с фронта эти женщины получают от него покаянное письмо — и прощают его. Шмелев увидел в деревне и светлое, и темное. Работник Максим — человек с пугливой душой, кормилец одиннадцати детей — своих и воевавшего брата-вдовца; на него «накатывала» темная сила, и как-то утром его нашли у лавки, где спали дети, с ножом у горла: по округе распространились слухи о том, что пришла ночью к Максиму темная сила «и открыла ему напоследок такое, что перерезал горло». Мирон и староверка Даша — счастливые супруги, но вернувшийся с войны Мирон обречен, у него сухотка мозга. Деревня открыла Шмелеву истины о народе, о нацональном, о русском человеке. Он увидел его благородство, выносливость, он подсмотрел в народной жизни трогательное, почувствовал невысказанное. В рассказе о войне «Три часа» (1915–1916) у новобранца по дороге на фронт появляется возможность навестить родную деревню, на свидание с матерью остается час — и мать, чтобы продлить встречу, бежит рядом с сыном, возвращающимся к эшелону через снежное поле. В сборник «Клич», посвященный жертвам войны, вошла проза Шмелева «В Луйском уезде» — начальный фрагмент задуманного им романа «Наследники»; в коллективный сборнике 1916 года «В помощь русским пленным воинам» он отдал рассказ «У плакучих берез», и он тоже — о национальном.