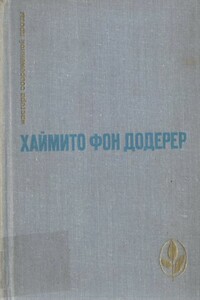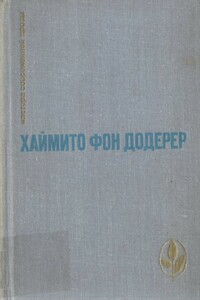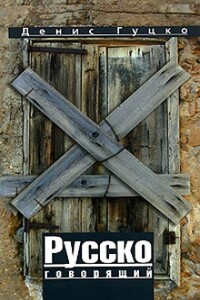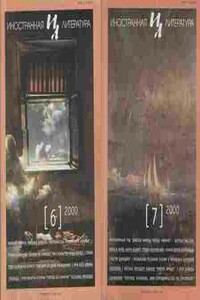Избранное | страница 12
Близость к миру эпическому сообщает додереровскому миру равновесие, четкость очертаний, внутреннее здоровье — черты, редкие сегодня в литературе Запада. Но эта же близость делает его мифологичным. «„Штрудльхофская лестница“ и „Бесы“, да и „Роман № 7“, — справедливо считает итальянский литературовед Клаудио Магрис, — свидетельствуют о грандиозности усилия Додерера возвратить общество, отчужденное общество отчужденного новейшего романа, в природу… Речь идет о попытке возродить эпос, который — со времен гомеровского описания щита Ахилла — основывался на тождестве общества и природы…»
Если бы Додерер не покидал этого круга преданий, метафор и символов, в которые облекается историческая жизнь Австрии, он не был бы крупным художником. Он, однако, не только эпик, а и современный романист.
«Итак, под историей, — в известной мере опровергая самого себя, пишет Додерер, — мы понимаем знание о том, что всегда единственно в своем роде и одновременно всегда сравнимо… Все всегда было, говорим мы с полным к тому основанием; и ничего не было прежде в его теперешнем виде, добавляем мы с не меньшим основанием». Суждения Додерера нередко противоречивы: то он выдвигает на первое место форму, то содержание; то объект, то субъект; говорит, будто у сочинителя нет никакой цели, а затем сообщает, что художественное творчество дидактично. Такая двойственность — результат неосознанной внутренней борьбы консервативного мыслителя неотомистского толка и писателя-реалиста, эпика и романиста, историка и мифотворца, метафизика и диалектика.
В данном случае последний берет верх: непрерывность начинает толковаться как движение, а не как застой. «Парадокс всякой повествовательной прозы, в том числе и исторической, — читаем в „Тангенсах“, — состоит в Двойном отношении к времени, которому, с одной стороны, надлежит остановиться в связи с завершенностью предмета или, если угодно, событий и которое, с другой стороны, приходит в движение, если благодаря возвращению этих событий они на непредвиденном скрещении жизни и памяти предстают в непрямом свете и приобретают для писателя весомость и актуальность». Это уже не эпическая «природность» социума, разглядываемого безмятежным рапсодом. Воспоминание здесь не столько отдаляет предмет, сколько его приближает, потому что центр тяжести перенесен на переосмысливающее и переоценивающее авторское сознание, к тому же пребывающее в окружении животрепещущих проблем своего времени.