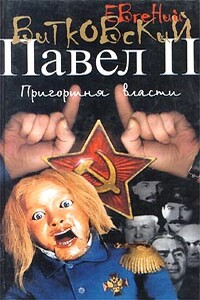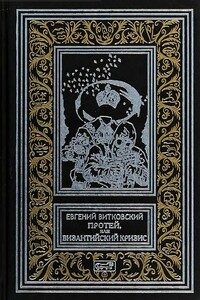На память о русском Китае | страница 14
А если углубляться в вопрос об идеологии, то она у поэта все-таки была. В 1937 году, в «Рассказе добровольца»[21], он писал: «Российская эмиграция за два десятилетия своего бытия прошла через много психологических этапов, психологических типов. Но из всех этих типов — один неизменен: тип добровольца, поднявшего оружие против большевиков в 1918 году. Великой бодростью, самоотвержением и верою были заряжены эти люди! С песней шли они в бой, с песней били красных, с песней и погибали сами». В том же году, в рассказе «Екатеринбургский пленник»[22], он говорит о времени еще более раннем: «Конечно, все мы были монархистами. Какие-то эсдеки, эсеры, кадеты — тьфу! — даже произносить эти слова противно. Мы шли за Царя, хотя и не говорили об этом, как шли за царя и все наши начальники». Если прибавить сюда пафос таких стихотворений, как «Цареубийцы», «Агония» и многих других, то вывод будет краток: Арсений Митропольский был монархистом, как того и требовала офицерская честь. Что, впрочем, не мешало поэту Арсению Несмелову печататься и у эсеров, и у большевиков и, уж точно не роняя поэтического дара, в сионистском харбинском журнале «Еврейская жизнь».
Вернемся, однако, во Владивосток, который во времена недолгого существования ДВР (Дальневосточной республики) превратился в довольно мощный центр русской культуры. Так же, как в расположенной на другом конце России Одессе, возникали и тут же прогорали журналы и газеты, особенно процветала поэзия: и Владивосток, и Одесса, несмотря на оккупацию, не желали умирать — это всегда особенно свойственно приморским городам. В начале 1918 года в бухту Золотой Рог вошел сперва японский крейсер, потом английский. И до осени 1922 года в Приморье советской власти как таковой не было: книги выходили по старой орфографии, буферное государство ДВР праздновало свои последние именины. Волей судьбы там жили и работали В. К. Арсеньев, Н. Асеев, С. Третьяков, В. Март и другие писатели, так или иначе «воссоединившиеся» затем с советской литературой. На первом сборнике Несмелова, носившем непритязательное название «Стихи» (Владивосток, 1921), отыскиваются — на различных экземплярах — дарственные надписи, среди них, к примеру, такая: «Степану Гавриловичу Скитальцу — учителю многих» (РГАЛИ, фонд Скитальца). Очевидно, себя Несмелов причислить к ученикам Скитальца не мог. Довольно далеко стоял от него и Сергей Алымов, в те же годы прославившийся в Харбине (а значит, и во Владивостоке: настоящей границы между ДВР и Китаем не было, зато была КВЖД) своим очень парфюмерным «Киоском нежности». Учителями Несмелова, всерьез занявшегося поэзией под тридцать, — в этом возрасте поэты Серебряного века уже подводили итоги, — оказались сверстники, притом бывшие моложе него: Пастернак, Цветаева, Маяковский.