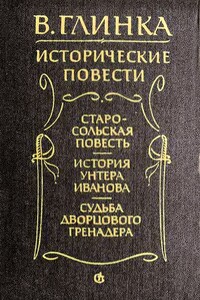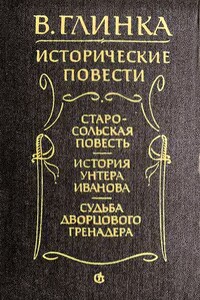Жизнь Лаврентия Серякова | страница 87
Но все обошлось благополучно. Один профессор Бруни узнал о случившемся — верно, от лакеев, своих подчиненных в Эрмитажной галерее.
— Изучайте пока, Серяков, академическое собрание, — посоветовал он. — Придет время, попадете и в Эрмитаж. Я вам назначу прийти в закрытые часы, а так только грубостей наслушаетесь.
Что ж, и в музее академии было немало замечательных произведений. На пейзажи Щедрина и Воробьева, на портреты Боровиковского и Кипренского смотри хоть по сто раз — не надоест. Да и в «Медном змие» и в «Помпее» тоже есть чему поучиться. Сколько в них труда и мастерства вложено!
Брюллова Лаврентий видел не часто и только издали, когда, окруженный старшими учениками, он проходил в класс композиции. Но имя его звучало в академии постоянно. Много говорили о новой картине — «Осада Пскова», обещавшей будто бы стать еще более знаменитой, чем «Помпея». Слышно было еще, что художник часто прихварывает, простудившись на лесах Исаакиевского собора, где пишет образа, и что собирается ехать лечиться в Италию.
О болезни Брюллова говорил и Кукольник, который 9 последнее время часто пребывал, по выражению Тихона, «в закислом состоянии». Приходя сдавать и получать работу, Серяков редко заставал теперь у своего патрона кого-нибудь из собутыльников и собеседников. Илюша Пузыревский, которого дядюшка стал было приохочивать к хересу, получил перевод в Киев. А сам хозяин почти никогда не сидел за работой, а все лежал на софе и размышлял о чем-то, исправно прикладываясь к бутылке, не сходившей с низкого столика.
— Жизнь проходит, брат Лауренций, — пожаловался он однажды. — Вот великий Карл собирается за границу, но уже не творить, а лечиться солнцем и водами. Глинка тоже все хворает, то одно у него болит, то другое. Распадается вконец наша «братия»… Да и я, по правде, все менее способен воспарять к поэтическим высотам. Скажу тебе, как мой Тасс:
И не потому, понимаешь ли, что талант мой оскудел, но не верю я больше в русское общество. На что ему взлеты чистого гения? Нашей публике подай житейскую грязь и мелюзгу, в которой она повседневно копошится, — страдания титулярных советников и швеек, любовь на третьем дворе. А я не могу ничего этакого. С чужого голоса соловьи не поют. Пусть низменным вкусам служат другие… Поищи, братец, сам на столе конверт, выбери штук пять, награвируй к следующему нумеру.