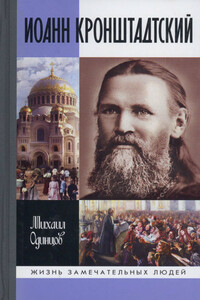Моя летопись | страница 8
В «Воспоминаниях» Тэффи много блестящих страниц, где писательница со свойственной ей ироничностью и умением проникать в суть характеров лаконично и убедительно воспроизводит лики времени. Книга Тэффи помогает нам понять тех, кто покинул Россию в разгар Гражданской войны или сразу после нее. Гражданская война — не столь уж частое явление в истории. И трудно в такой период сохранять нейтралитет, нужно, хотя бы в пассивной форме, принять ту или иную сторону. Сделать выбор. И Тэффи делает его: ее враги — новые большевистские власти и их войска. Она об этом пишет. И лишь мимоходом сообщает, как с Максимилианом Волошиным они вызволяли из застенков Добровольческой армии Кузьмину-Караваеву, схваченную белыми по ложному доносу.
Тэффи не пишет о застенках Добровольческой армии (она этого и не могла знать, поскольку в период гражданской войны — как и любой войны — всегда возрастает роль пропаганды, и если газеты белых ярко живописали жестокости красных, то газеты красных с не меньшим усердием клеймили зверства белых), но зато несколько раз сообщает о виселице, которую явно использовали красные.
Книга Тэффи помогает понять тех русских людей, кто оказался в стане белых, покинул родные берега с надеждой вернуться, но так никогда и не ступил вновь на русскую землю.
Несколько иной жанр у произведений, включенных в книгу, которую писательница предполагала назвать «Моя летопись». Здесь она хотела рассказать о тех замечательных (в том или ином отношении) людях, с кем ей пришлось встречаться, общаться на протяжении многих лет или же встретиться всего лишь два-три раза (например Распутин), но слишком уж выделялись эти люди, слишком заметную роль сыграли или в истории литературы, или в судьбе России, русской эмиграции, или, наконец, в судьбе самой Тэффи. Герои ее «Летописи» не равнозначны ни по таланту, ни по известности, ни по своей роли в той или иной сфере жизни. Однако все они прошли через жизнь писательницы и оставили в ней заметный след.
Читателю сразу же бросается в глаза, что ни одна из глав «Летописи» не посвящена тем современникам, кто еще был жив. Правда, в главе «Георгий Чулков и Мейерхольд» Тэффи оговаривается: «Не знаю, жив ли Георгий Чулков». Но, очевидно, все же до нее дошли какие-то слухи, что к тому времени Чулкова в живых уже не было. Так что принцип этот выдержан. О живых она или упоминает мельком, или зашифровывает их под каким-нибудь инициалом. Вероятно, здесь действует внутренняя тактичность: Тэффи знает, что не каждому хочется, чтобы о нем писали, — а иногда и опасение навредить: вдруг тот, кого она упомянула, находится сейчас в Советском Союзе — ведь его могут объявить «врагом народа» из-за того, что о нем пишет «белогвардейская» писательница…