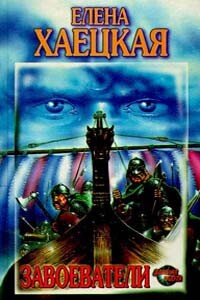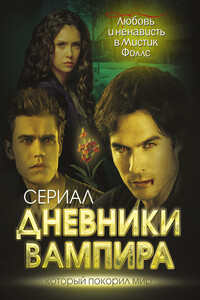Как писать книги | страница 66
Это достаточно примитивные примеры, а вообще вкраплением просторечий, связанных с тем или иным персонажем, можно создавать очень красивые эффекты, как бы «отдавая во владение» герою целые участки текста — и при том еще до того, как сам герой в них появится.
Употребление просторечий — прием сильный и поэтому должен использоваться очень аккуратно.
Одна из причин — невозможность приклеить нос от трупа на картину. (Когда я сейчас пишу, я не вижу читателя — не стою с ним лицом к лицу, — и поэтому не могу заранее предположить, знает он какую-то историю или не знает, известен ему некий расхожий пример или неизвестен. Поэтому буду рассказывать все свои любимые примеры и сравнения целиком, для верности).
Существует рассказ о художнике, который так жаждал достоверности в своем искусстве, что однажды отрезал у трупа (очевидно, в анатомическом театре) нос и приклеил на свою картину. Насколько мне известно из моих собственных детских опытов в портретной живописи, изобразить нос — это действительно самое сложное. Очевидно, у того художника из притчи были такие же проблемы. Но мастер, гласит рассказ, высмеял беднягу. Потому как реальность не должна вторгаться в искусство. Искусство ее имитирует, и именно имитация делает искусство реальностью. Второй реальностью. Особенной, отдельной, с собственными законами.
Ну так вот, никогда не следует лепить нос к картине.
Это значит, что никогда не следует брать из жизни куски разговорной речи и, не пропустив их через горнило… э… через волшебный самогонный аппарат… в общем, не подвергнув их алхимическим процессам творчества, — нельзя в чистом виде вставлять эти куски в художественный текст.
Мир внутри книги — это Реальность-2. Она может сколько угодно выглядеть реальной, но на самом деле она искусственна. Именно это, повторю, позволяет ей выглядеть естественной.
Поэтому любая жаргонная, разговорная фраза, никак не преобразованная, не обдуманная, не осмысленная и не трансформированная автором, взятая просто из речевой стихии и воткнутая в текст, будет выглядеть носом трупа на картине.
Жаргон, просторечия — все это изменяется вместе с эпохой. Кроме того, в одних городах, компаниях, бандах — так, а в других — иначе.
В очень ранней юности, не имея от роду и двадцати лет, я усиленно трудилась над пьесой (потом она превратилась в повесть, а сейчас хранится в домашнем архиве как наглядное пособие всех возможных и невозможных ошибок, какие только способен сделать начинающий автор, печальное существо с острова доктора Моро, так сказать). В частности, в этом произведении я пыталась воссоздать реальную разговорную речь. Герои-то — молодые люди, студенты первого курса университета (как я), поэтому, как мне казалось, нет ничего проще — нужно просто записать все то, что я слышу вокруг. И вот у меня герой произносит: «Неудобняк какой крутой». Я страшно гордилась документальностью реплик своих персонажей. Трижды ха-ха. Они звучали глупо, фальшиво, при перечитывании два года спустя я страшно краснела именно на этих репликах. Во-первых, в универе уже никто так не говорил, возникли какие-то другие словечки. (Эту коварную переменчивость разговорной речи я считала главной бедой! Наивное созданье!) Во-вторых, как-то фальшиво звучали эти реплики, а почему — я не понимала.