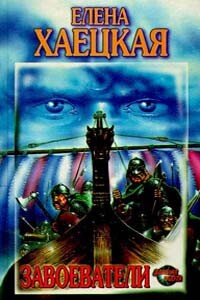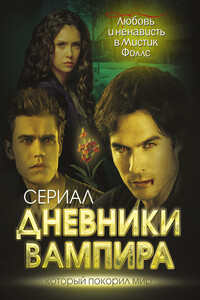Как писать книги | страница 65
Поскольку мы сейчас не говорим о написании документальных очерков из реальной жизни селян, воров в законе или поморов с их характерной, неповторимой речью, поскольку мы не сосредоточены на этнографически точном воссоздании речи и быта, то, следовательно, мы должны будем обратиться к имитации определенного вида просторечия.
Такую имитацию проще всего создать с помощью вкрапления одного-двух просторечных слов в нейтральную лексику. На уровне синтаксиса она имитируется инверсией, то есть перестановкой слов с «правильного» места на «неправильное»: сказуемое перед подлежащим, а определение перед определяемым словом. Стилистически нейтральное предложение выглядит так: определение — подлежащее — сказуемое. Просторечие ставит все с ног на голову: сначала идет сказуемое, потом подлежащее, потом определение — «Идет коза рогатая».
Иногда просторечие проникает из диалога в авторскую речь. Когда это оправдано?
При создании несобственно-прямой речи вполне уместно употребить слово или конструкцию, характерную для прямой речи данного персонажа.
Но можно зайти еще дальше и применить тот же прием просто при описании некоего места или ситуации, связанных с героем. Это свяжет персонажа с его неповторимой манерой выражаться и место (ситуацию), которую вы хотели бы соединить с ним в одном ассоциативном ряду.
Например, вы описываете уроженца сельской местности. Он употребляет слова «понева», «колодезь» и «баба». Описывая местность, из которой происходит данный персонаж, вы вполне вправе написать, что баба в поневе стояла у колодезя. Потому что это все родные для персонажа понятия. И читатель после такого как-то лучше начинает проникаться его менталитетом.
Другой вариант, персонаж — вор и употребляет слово «малина» в значении «воровской притон». Вы описываете некую комнату и попутно называете ее «малиной»; читатель уже подготовлен к тому, что сейчас встретит там данного персонажа или ему подобных.
Или вот еще пример. Персонаж склонен произносить «черт знает что» и вообще чертыхаться. И вот он пробирается по темному коридору, где расставлены ловушки, всякие табуреты, горшки, набросаны веревки и вообще «черт знает что еще». Таким образом автор (а вместе с ним и читатель) полностью переходят на сторону героя и начинают не только видеть его глазами, но и думать его словами. Причем они не его мысли думают, это не прямая речь и даже не вполне несобственно-прямая речь, а просто описание некоей ситуации. Как бы «объективное» описание. Хотя на самом деле не так.