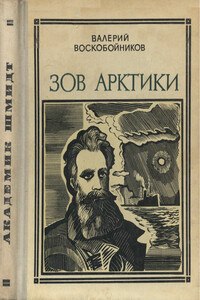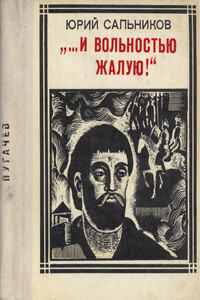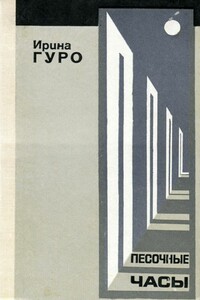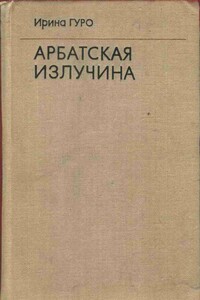«Всем сердцем с вами» | страница 59
Сегодня, третьего августа, Германия объявила войну Франции. Завтра ожидается вступление в войну Англии; на стороне Франции Россия…
Дни идут, решающие дни.
В доме Клары — как в тысячах других домов: проводы сына на позиции. Последние слова нежности и печали. Клара словно впервые видит взрослого сына. Молодой военный врач в полевой форме, как-то вдруг возмужавший и огрубевший, — это ее сын! После всех юношеских увлечений он пришел к твердому решению, что медицина — его призвание. И вот теперь гуманнейшая из профессий позвала его на поля неправедной войны.
До Штутгарта дошла весть о том, что социал-демократическая фракция рейхстага одобрила военные кредиты! Как это могло случиться? Черная измена в собственных рядах?
Несмотря на военную цензуру, Клара находит способ довести свои мысли до множества людей, читателей «Равенства». Но наступило другое время: заговорили листовки, нелегально печатаемые в типографии «Равенства».
В штутгартских пивных толкуют о положении на Фронтах, на все лады обсуждают письма земляков из армии. Если судить по этим письмам, до победы совсем недалеко.
В трактирах пьют, читают газеты, прикрепленные к круглым палкам, здесь все возбуждены, здесь все — стратеги.
Сидят дома те, кто получил письмо в траурной рамке… И думают о безымянной могиле с каской на простом кресте или со многими крестами, совсем одинаковыми; недаром эти могилы зовутся «братскими».
Перед лицом войны вея нация должна быть одной семьей?! Почему же сыновья богачей не на позициях, а «служат отечеству» в разных комитетах, занимающихся поставками в армию? Конечно, все должны приносить жертвы. Бросить на алтарь родины, великой и бесконечной, самое дорогое. Но одни бросают деньги, а другие — сыновей! И те, кто бросает деньги, с лихвой получают их обратно. А сыновья не возвращаются.
Такие мысли чаще всего посещают женщин. В шуме фабричных цехов, куда многих из них привела война.
И по-прежнему листы «Равенства» читают в домах рабочих. Газета поддерживает их добрым голосом старого друга.
Еще не пикировали над мирными городами бомбардировщики, и человечество еще ничего не знало об атомном оружии. Свастика была только древним символом, известным лишь специалистам по истории религия; рабство казалось безвозвратно ушедшей общественной формацией, а вандализм — понятием историческим и применяемым лишь как метафора в начале нашего просвещенного века, и уж конечно, аутодафе на площадях было атрибутом канувшего в Лету средневековья.