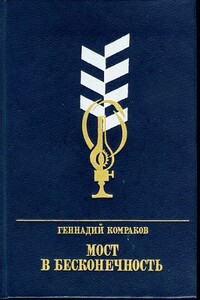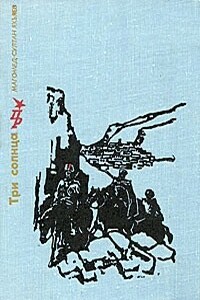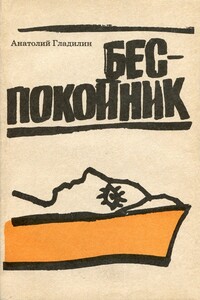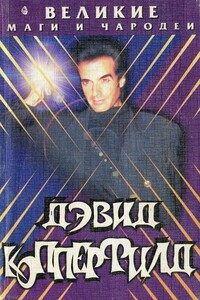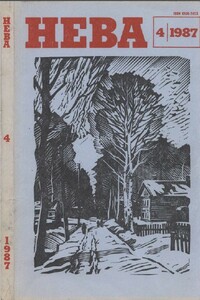Сны Шлиссельбургской крепости | страница 7
Отобедал Матвей Ефимович, молча чмокнул супругу в щеку, та аж раскраснелась, поняла, что угодила. Старшой дочке, Маше, в арифметике помог, с Олей в лошадки поиграл, Сереге кошку обещал (суета одна с кошкой, грязь, непорядок, но раз сын просил, сделаем, какие у ребенка развлечения в крепости, тоска, а кошка все же забава), ну а Володенька… Порешил Соколов Заркевича к Володеньке послать, пусть порошок пропишет, ученую его душу в бога и в мать!
И часу не прошло, а Соколов уже ремень потуже затянул и шинель накинул. Вот и все радости. Служба — она зовет. Пора нумеров своих проверить.
Угадал он с третьим нумером. Когда Соколов в кордегардии белье из прачечной принимал, прибежал Сидоров с докладом: дескать, буянит третий, в дверь стучит, кричит, что его бьют, душат. А кто его бьет-то? Кому он нужен? Соколов вызвал Заркевича, пришел с командой. Надели на третьего смирительную рубаху, отволокли в цитадель, в старую крепость. Ничего, обошлось. Раньше, когда третий буянить начинал, остальные нумера тоже шум подымали. А теперь тихо прошло, видать, привыкли.
И ужин тихо прошел, без скандальности. Правда, опять с девятнадцатым нумером лоб в лоб столкнулись. Но тут уж разговор особый.
Еще часов в шесть, когда Соколов в глазок тридцатой камеры заглянул, то заметил: выражение лица у девятнадцатого особенное. Обычно, когда Соколов щеколду поднимал, чтоб в глазок глянуть, нумер слышал шорох; то кулак показывал, то комбинацию из трех пальцев — словом, охальничал. А тут даже не шевельнулся. И тогда пришла к Соколову мысль: а не начинает ли сдавать злодей? Давно уж пора. Ведь в августе еще гоголем ходил, куражился, даже заявил однажды, дескать, «прошу, чтоб меня расстреляли». Это он начальство испугать хотел, думал, что сейчас ему из Питера поблажку пришлют. А как до дела дошло, то есть когда в сентябре уводили пятого нумера на старый двор — «к праотцам отправлять», — ведь не пикнул девятнадцатый нумер, промолчал. Потом, правда, шум поднял, да что шуметь?
Нет, недаром Соколов еще в равелине служил. Он ихний преступный характер давно изучил. Иной злодей от болезней головы поднять не может, а все волком смотрит. А другой жив-здоров, а сам в петлю лезет. Это потому, что не в ладах с законом — не с божьим, человеческим, а со своим, разбойничьим.
Божий, людской закон понятен: служи честно, не гневи начальство, да о себе не забывай. А у них, разбойников, вроде бы другой закон: ежели, скажем, вызвался на дело, хоть на смерть, то не отступай. А отступишь, так сам себя загрызешь. Вот они, законы-то разбойников! И получалось, что девятнадцатый нумер вроде бы вызвался («прошу меня расстрелять»), да отступил, притих. И сейчас себя поедом ест. Такой момент чуять надо.