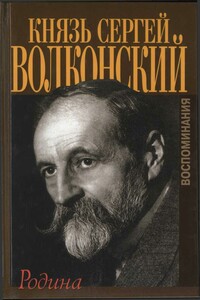Мои воспоминания. Том 2 | страница 21
Раз захожу в контору нашего Мариинского хутора. Сидит за конторской книгой молодой парень; я невольно нагнулся — меня поразил почерк. «Ты писал?» — «Я писал». Стал его расспрашивать; он так мне стал рассказывать все приемы счетоводства, как будто это для него праздник. После того он поступил к брату моему в Саратовскую губернию. Года через два получаю в Италии письмо от Гаврилы Позднякова (так его звали) из какого-то захолустья в Польше; он на военной службе и просит, нельзя ли похлопотать, чтобы его перевели в Петербург — ему страстно хочется учиться. Пишу брату Александру, который служил в Главном штабе. Отвечает, что такие переводы невозможны. Проходит месяца три, получаю письмо от Позднякова из Петербурга: переведен в Главный штаб за почерк; просит помочь ему деньгами, чтобы поступить на бухгалтерские курсы. Прошу того же брата это для меня сделать. Через два года радостное письмо: курс кончил, имеет хорошее место на Николаевской дороге и даже просит разрешения вернуть мне деньги… Быстро пошел в гору. Одно время был заведующим конторой винных складов графа Воронцова-Дашкова. Во время войны был взят в канцелярию Главного штаба. Здесь аккуратностью и деловитостью своей настолько выдвинулся, что откомандирован в личное распоряжение военного министра, и Поливанов говорил, что он спокоен, когда Поздняков у него в кабинете. Благодаря своим бухгалтерским знаниям он изобрел способ, которым мог в три минуты времени доставить сведения о любом солдате русской армии. На третий год войны он приезжал домой, в село Криушу, и заходил ко мне. Он даже — о ирония судьбы! — сдал мне свой сундук на хранение; к счастью, {33} он вовремя его убрал. Последнее письмо от него имел в 1918 году из Бердянска… И сколько людей, пройдя через нашу контору или наши мастерские, увидали свет. А учиться начали в нашей усадебной школе, где первой учительницей была основательница ее, моя мать…
Едем дальше. Всегда, куда ни подъезжаете, есть последний поворот; огибаем домик священника; вот наша красивая церковь на большом выгоне, окруженном саженым лесом. Вот пошли направо конюшня, водокачка, скотный двор, налево — разгонная конюшня, людская. Все это широко, раскидисто. Вот ворота, другие ворота; въезжаем в аллею — другую аллею: в четыре ряда елки; стрижено, архитектурно. Выезжаем на спуске к плотине: налево пруд, и в пруду отражается белый флигель, «молочный дом». Он красив отсюда в зелени, но и оттуда красиво сюда смотреть, на эту сторону. Из окон моей спальни во втором этаже особенно красиво. Прежде здесь была пустыня, от которой хотелось отгородиться, а теперь красивые луга, окаймленные волнистыми линиями лесной опушки. Эту часть мы называем Александровский парк. Из окон спальни смотрю в бинокль на мною созданный пейзаж. Другая страна. Это ли тамбовская степь? Волнистая местность, дубняк, березняк, ельник; и среди рощ возделанные нивы. В бинокль вижу, смотря по времени года, — покорно-длинные вереницы подъяремных волов, трескучее подпрыгивание сеялки, пестрый цветник платков и сарафанов во время полки и крылатое вращенье жнейки, снимающей плоды предшествовавших трудов. Все это на фоне зеленых рощ, перед горизонтом из древесных макушек, я вижу из окна, из которого двадцать лет тому назад был виден пустырь и за ним степная голь… Вот то творчество, которое привязывает к месту. Как часто меня спрашивали: «Вы любите сельское хозяйство?» — «Нет». — «Вы любите охоту?» — «Нет». — «Что же вы в деревне делаете?» Уверяю вас, что мой день очень наполнен.