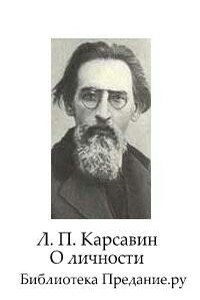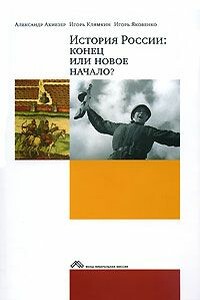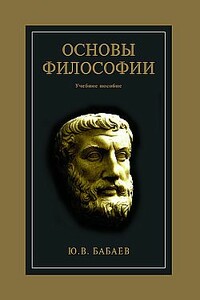Saligia. Noctes Petropolitanae | страница 32
Издатель полагает, что обо всем этом он так или иначе мог бы с автором столковаться. Ведь он, отличный от него, все же и есть сам автор, составляя с ним «двуединство». Но тогда бы нужно было, уничтожив предисловие и трактат, написать им вдвоем новое сочинение, что в нынешнее время совершенно невозможно по типографским условиям.
1921, 9 октября Петербург
Ночь первая
1. Погас, наконец – как всегда предательски-неожиданно – мертвый свет электричества, и при колеблющемся мерцании жалкого ночника в чреватой тишине собираю я чувства свои и мысли. Невыносимо-тоскливо. Но как высказать себя, как выразить то поющее, что не может быть спето, ту муку, которая должна разрешиться в самообнаружении и бессильна себя обнаружить? Не знаю, найду ли слова, сумею ли внутреннею песнью речи освободить себя от непереносного томления духа… Успокой же меня, тихая Ночь, первая ночь моих излияний, молчаливая и полная дум, живая в шуме метели за окнами, в слабом писке где-то в углу бегающих мышей!
Любовью полно мое сердце. И слезы благодарной радости туманят мои глаза, когда вспоминаю, Любовь, о последнем даре твоем. Уже миновало откровение, и свет, озарявший всю душу, стал незримым. А все еще ощущаю я его благоухание, и кажется, будто чувствую где-то в самой глубине моей тихое прозябание того, что тогда явилось. Живет во мне тайною жизнью это мгновение и словно ждет нового, ведомого ему мига, чтобы опять озарить и зажечь всю душу мою… Или это лишь я хочу возвратить невозвратное, но нет ни благоухания, ни таинственной жизни, ничего – кроме томленья и жажды?.. Зову тебя, Любовь, и не в силах расстаться с благоуханьем твоим. Тяжелее смерти мысль о том, что ты не вернешься, что тебя во мне нет. И эта память о тебе – какая-то жизнь твоя во мне, дающая мне силы тебя искать и о тебе думать. Думаю о тебе и надеюсь, что мысль моя тебя призывает… Прости же мне это лукавство, наивную магию одинокого ребенка.
Помню, стеснялось дыханье в груди, и глаза закрывал я рукой, и вздыхал от сладкой истомы, в такую же одинокую ночь, при том же колеблющемся мерцании жалкого ночника… Но не помню того, что чувствовал, ясно; не помню тебя – только бледный твой образ во мне, тихое течение, скрывшееся где-то в глубине души, словно ручеек сочащийся во льдах глетчера… Вернись же, вернись, Владычица Любовь! Владычица… – Мне ли не вспомнить твой царственный лик, твою вселенскую мощь? Ты всевластна и неодолима; ты налетела на душу мою как сама мировая жизнь, и растворила меня в себе. Впрочем, нет – не растворила. Я, вот этот самый я, взывающий теперь к тебе и тоскующий, был рядом с тобою, хотя и в тебе. И дивился я неведомой мне дотоле силе твоей, властному и уверенному, всезнающему течению твоему; дивился и, как дитя увидавшее невиданное, смеялся, радовался всевластию и могуществу твоему. Смеялся…, хотя ты терзала меня, рвала, словно тонкие нити, все связывавшее меня с дорогим мне и близким, бесстрастно разбивала все, чем я жил. И чувствовал я, и знал: прежняя жизнь не жизнь, а бескровный сон, истинная – в тебе и ты. В тебе открылась мне, наконец, сама жизнь и в ней – мне начертанный путь. На нем – так казалось – смогу я разрешить все загадки, передо мной вставшие, расцвести и просиять; если же уйдешь ты и не вернешься, мною забытая, – померкну я и потухну, и никто уже не снимет для меня печатей с последних тайн мира, смутно чуемых мною. И знал я: идти с тобою – идти на муку, стать и жертвою и палачом… но дивился я тебе и смеялся, как дитя увидавшее невиданное. Знал я, что должен идти, хотя могу и не идти;